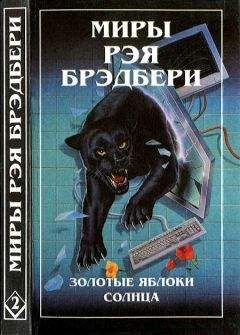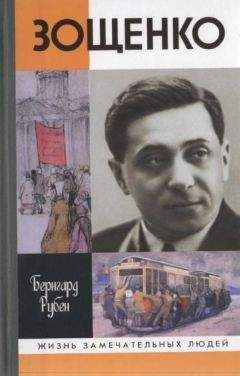В свою очередь Эренбург передает её вторую книгу стихов («Под каменным дождем» — оформление Н. П. Акимова) начинающему критику А. В. Бахраху и тот печатает в берлинских «Днях» на неё рецензию. А сам Эренбург о второй книжке написал автору: «Мне понравился ряд стихотворений, особенно о революции. Потом с каменным дождем. Меньше 3-ий отдел (детские мотивы, балладный стих — Б.Ф.). „Агарь“ недостаточно дика и зла. Если будет возможность — устрою твою книгу».
Уже в первом письме, пока в Берлине существовала реальная возможность печататься по-русски (через год она практически исчезла), Эренбург предлагает Полонской прислать ему стихи, чтобы выпустить в Берлине книжку — Е. Г. этим не воспользовалась (тогда и в Питере у неё была такая возможность), а теперь оказалось уже поздно: поезд русских книг в Берлине — увы, ушел…
Вообще взаимный интерес к стихам друг друга остается центральным в переписке — стихи в конце писем переписываются набело, по получении — обсуждаются, оцениваются («хорошие, сухие стихи»; «люблю в них свое»…, «читал твое стихотворение „Договор“ — хорошо. Я — определенно люблю твой пафос»), просьба присылать новые — постоянна («Почему ты мне не шлешь своих стихов? Я по ним соскучился»), вопросы «что пишешь?» — неизменны. И о своих поэтических привязанностях Эренбург пишет Полонской, хотя они не всегда совпадают с ее привязанностями. В 1922 году Эренбург с несомненным пиететом пишет о Маяковском (в 1927-м мало что останется от былых восторгов) и, явно отвечая на встречный вопрос, пишет: «С Асеевым лично не знаком. Стихи его большей частью люблю. Его же статьи большей частью остроумны, но чрезмерно легки, и не той легкостью, которую я люблю». Но, конечно, главная влюбленность — Пастернак. «Приехал сюда Пастернак. Это единственный поэт, которого сумел я полюбить настоящей человеческой любовью (человека). Вне всего этого — у него изумительные стихи. Мне — радость. Знаешь ли ты „Сестра моя жизнь“?». Через месяц снова: «Здесь сейчас моя любовь — Пастернак. Знаешь ли ты его стихи?» и добавляет, что в Питере «пишут прозу хорошую, а стихи скучные». Все пастернаковские лит-новости сообщаются тотчас же: «Вышла „Тема и вариации“ Пастернака. Я брежу ею… М. б. я особенно люблю его мир, как противостоящий мне и явно недоступный». Выслав Полонской эту книжку, Эренбург ждет отклика и явно огорчен им: «А о Пастернаке ты зря: он не виртуоз, но вдохновенный слепец, даже не осознающий, что он делает»…
Письма пестрят литературными именами — Шкловский, Ходасевич, Белый; вопросы о Серапионах…
В Петрограде Полонская была обладательницей единственного экземпляра «Хулио Хуренито» (роман в городе запретили). Вольфила решила посвятить ему вечер; спустя почти сорок лет Полонская вспоминала о нем в письме Эренбургу: «Ты прислал мне „Хулио Хуренито“, и Иванов-Разумник (один из сопредседателей Вольфилы — Б.Ф.) упросил меня прочесть доклад об Эренбурге и Хуренито. Я сказала: могу только пересказать роман подробно. Он согласился, и я пересказала. Было много народу, Сологуб, Замятин, Зоргенфрей, серапионы, какие-то критики. Комната была освещена плохо, кухонной керосиновой лампочкой у меня и коптилкой на столе президиума. Пошли споры. У меня заболели глаза, и я больше не могла читать отрывки из книги (шрифт был неясный, бумага желтая, краска плохая). На другой день я показалась глазнику и он мне велел носить очки для занятий». В книге «Встречи» Полонская тоже пишет, что свет гас и Юрий Тынянов помог ей дочитать куски из романа, а после собрания попросил её дать ему прочесть увлекательную книгу. Обо всем этом Полонская рассказала Эренбургу и в 1922 году, но видимо этот рассказ был не сентиментальным, а ироническим, потому что Эренбург ответил в тон: «Вольфила привела меня в предельное умиление — я готов был расплакаться или по меньшей мере стать честным. Ведь это ж нечто рассказанное Учителем. Ты знаешь — ты могла бы быть его прекрасной ученицей!»…
Не раз Эренбург пишет о том общем, что их связывает: «Снова наши письма скрестились. Ты спрашиваешь — „в тон ли“? А разве это новый тон? Разве не слышишь его в детской форме еще в 1909 году? Читая письма, вижу твою улыбку. Кажется, ей (и следовательно, и „Хуренито“, и многому иному) мы учились вместе. Порой мне жаль, что ты не пишешь прозы, злой, кусачей и в то же время нежнейшей. Почему ты не присылаешь мне новых стихов? Я люблю в них свое, то, чего нет в русских стихах, где „славянских дев как сукровица кровь“[996]. Твоя не такая». И в конце 1922-го: «Ты меня правильно видела во сне: я сижу в кресле, курю трубку и молчу».
Но стихами и делами письма, конечно, не исчерпываются. Уже в одном из первых писем Эренбурга есть вопрос: «Как зовут твоего сына и какой он масти? (земные приметы)»[997], встречается и просьба написать о его дочери, которую Полонская изредка встречала. Судя по неизменным приветам Серапионам, Полонская пишет другу юности о Братьях, иногда присылает новые книги — Тихонова, Зощенко, их альманах. В это время в Берлине живет и Шкловский и, поскольку Эренбург постоянно рассказывает о встречах и разговорах с ним и часто пишет о Викторе Борисовиче «твой друг», «он тебя ценит и любит», ясно, что Полонская немало рассказывала о Шкловском. Она направляет к Эренбургу Льва Лунца, когда он уехал в Германию, и Эренбург отвечает, что Лунц ему очень понравился; сообщает Эренбург и о том, как встретили в Берлине молоденького Познера.
Эренбург иногда жалуется на лапидарность писем Полонской, на то, что не ответила вовремя, но сами письма вызывают его восторг. Нет-нет, да и прорываются воспоминания о 1909 годе — Эренбург осторожно оговаривает их: «Кажется, что мы с тобой уже совсем взрослые и можем вспоминать». Так возникают упоминания о его поездках, когда — вдруг! — он натыкается на места, где когда-то были вдвоем… Возникают имена друзей и знакомых того года — Наташа, Лафорг, Минский, Надя Островская (парижский скульптор, ученица Бурделя, она поначалу была заметным деятелем партии, потом вместе с оппозицией была уничтожена — «Насчет Нади Островской очаровательно»).
Элегическая грусть сопровождает воспоминания: «Я хотел бы видеть сейчас твою прекрасную усмешку! Откровенно говоря, я сильно одинок. Т. е. ни „соратников“, ни друзей, ни прочих смягчающих вину (жизни) обстоятельств… Напиши больше о себе. По крайней мере о внешних выявлениях, т. е. о сыне и о поэмах, которые теперь пишешь».
И там же минутное самоуничижение: «Мне надо было б одно из двух: или иметь много (по-еврейски весь стол) детей, сыновей, или быть коммивояжером в Африке. Получилось третье, и худшее». Редкий случай так открытого Эренбурга (в иных письмах этого не встретишь): «Устал. Стар. Много сплю. И хочется брюзжать. Еще шаг — мягкие туфли (их Эренбург отметал и даже в глубокой старости тапочек не носил дома никогда! — Б.Ф.) Не влюбляйся — это самое воскресное занятие. Лучше пиши злую прозу и нежно люби. И то и другое — твое. Это я наверное знаю».