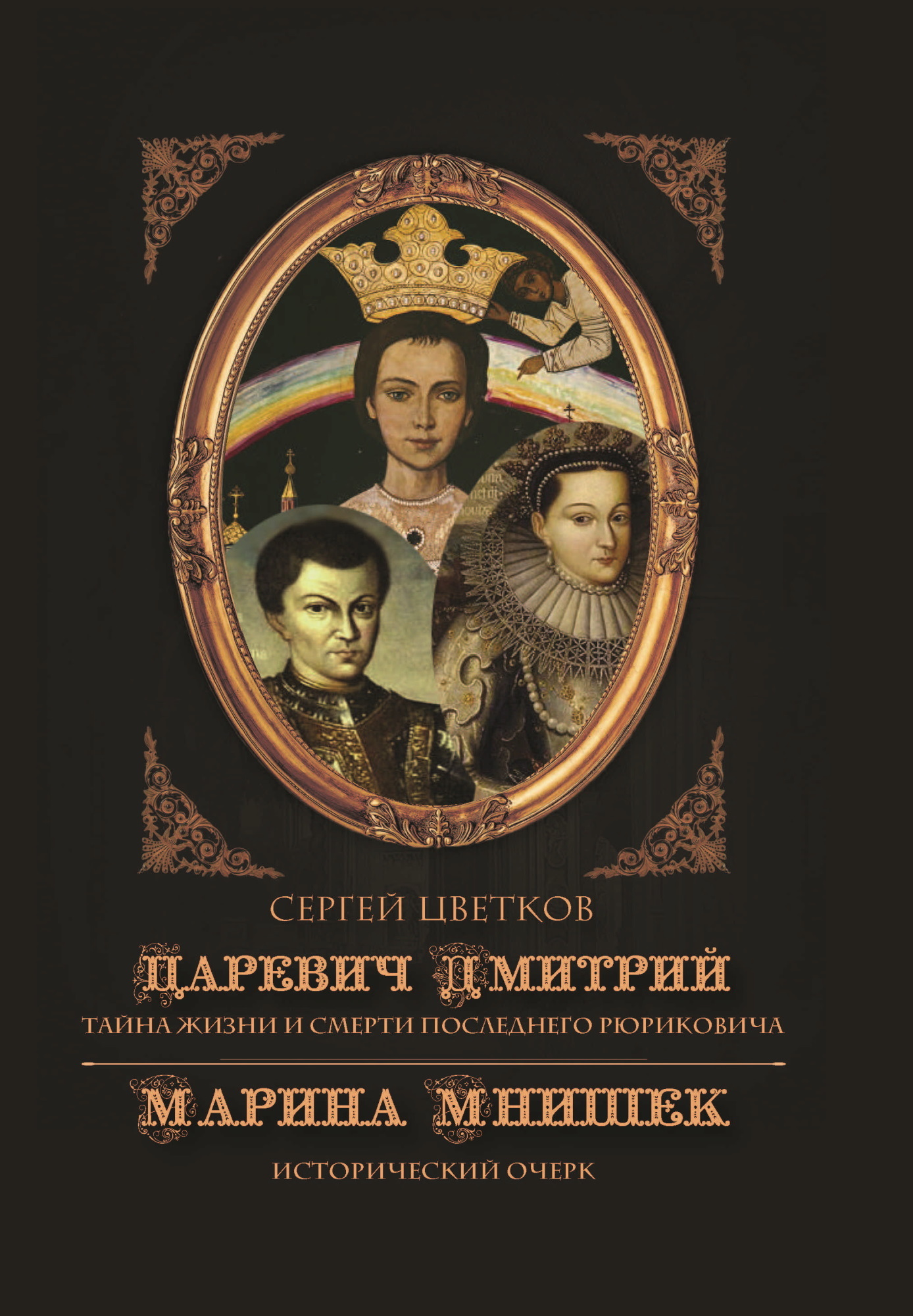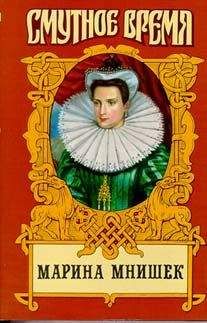него обещание, что «заслуги» его отряда будут приравнены к службе под королевским знаменем.
Ополчение 1611 года состояло, таким образом, из московских ратных людей – остатков армии Скопина, бывших тушинцев и казаков. Вследствие этого командование над ним распределилось между Прокопием Ляпуновым, князем Дмитрием Трубецким и Заруцким.
В Москве, раздраженной бесчинствами поляков, взрыв был неизбежен. Повод к нему дал один из польских ротмистров, Николай Косаковский, которому Гонсевский поручил втащить орудия на стену Китай-города. Чураясь тяжелой работы, Косаковский попытался перевалить ее на плечи находившихся рядом московских извозчиков. Завязалась ссора, перешедшая в драку, а потом в настоящее побоище, охватившее всю Москву. Поляки, по словам Маскевича, «быстро истребили купеческий народ в Китай-городе», но в Белгороде, где жили служилые люди, москвичи выкатили на улицы пушки и «жарили по нашим (т. е. по полякам. – С. Ц.)». На улицах стали стихийно возникать завалы, откуда по полякам вели прицельную стрельбу из пищалей. В то же время извне в город рвался передовой отряд ополчения под руководством князя Дмитрия Михайловича Пожарского. После неоднократных неудачных попыток овладеть Белым городом поляки подожгли его и заставили москвичей отступить.
Вечером думные бояре вышли к народу уговаривать помириться с поляками, но услышали в ответ:
– Вы жиды, как и Литва! Сейчас мы вас шапками закидаем и рукавами прогоним!
На другой день поляки для расширения огненного кольца, защищавшего их от ополченцев, зажгли Замоскворечье. Затем, когда со стороны Можайска к ним прибыло подкрепление – несколько свежих эскадронов пана Струся, – поляки напали на Пожарского, укрепившегося в пригороде. Ополченцы отступили; Пожарского, покрытого ранами, увезли в Троице-Сергиеву лавру. «Москве пришлось отступить перед огнем, – пишет Маскевич, – а мы шли за нею и до самого вечера поддерживали пожар».
Ночью пожар так разгорелся, что в домах было светло, «как и днем не бывает».
В последующие дни поляки отбили наступление полков Ляпунова и, возвратившись в столицу, устроили в ней резню, сопровождавшуюся повальным грабежом купеческих лавок, боярских домов, церквей и Кремля. Патриарх Гермоген был заключен под стражу на подворье Кириллова монастыря. Дума, следуя примеру предыдущих московских государей, по своему хотению назначавших и свергавших владык, лишила старца патриаршего сана, сорвала с него архиепископское облачение и одела в простую монашескую рясу. С этих пор Гермоген сделался живым символом национального сопротивления. Дряхлый, полуслепой, он сохранил несгибаемую силу духа, до самого своего конца проповедуя освободительную войну против поляков. Постепенно в глазах народа он приобрел черты мученика, апостола священной войны, обладающего даром пророчества, и одновременно былинного героя, единственного прочного столпа веры и отечества, одним своим словом двигающего рати и сокрушающего сонмы врагов.
Москва превратилась в пепелище, в жестокий мартовский холод люди разбредались по окрестным деревням, чтобы найти себе временный кров. На улицах столицы валялись неубранными тысячи трупов. Тем временем отряды ополчения продолжали стекаться к городу, и в понедельник на Пасхе 100-тысячное войско уверенно расположилось лагерем под стенами столицы. 6 апреля русские внезапным ударом заняли большую часть Белого города. В стычках с поляками особенно отличился Ляпунов, по словам летописца, «рычавший, аки лев».
В начале мая под Москвой появился Сапега. Он вновь завел переговоры с Ляпуновым, опять не столковался с ним, был разбит и присоединился к полякам. Но это подкрепление оказалось только в тягость – в полуразрушенном городе сапежинцы лишь увеличили количество ртов, которые надо было кормить. Поэтому Гонсевский постарался поскорее избавиться от незваного помощника, отослав его к Переславлю с поручением обеспечить снабжение польского гарнизона в Москве.
Москву продолжали удерживать всего каких-нибудь 3000 поляков, но все попытки выбить их из Китай-города и Кремля оканчивались неудачей. Тем не менее положение их было отчаянное, надеяться они могли только на помощь извне. Ополченцы понимали это и насмехались над осажденными: «Да, король пришлет вам 300 человек и одну кишку!» (К Москве приближался небольшой отряд королевской армии под предводительством Кишки, и русские обыгрывали его фамилию: kiszka по-польски означает «колбаса».) Другие остряки кричали полякам:
– Радуйтесь, пан Конецпольский приближается!
Между тем Смоленск продолжал удерживать под своими стенами основные силы королевской армии, несмотря на то что Сигизмунд «разрешил» его жителям присягать не ему, а Владиславу. А успехи ополченцев под Москвой сделали боярских послов еще более несговорчивыми. Поляки серьезно полагали, что князь Василий Голицын подбивает смоленцев к дальнейшему сопротивлению. «Посылает он в Смоленск, – жаловался один королевский придворный, – когда хочет и с чем ему заблагорассудится. Принимают его письма и его гонцов, а он нисколько этого не отрицает, только утверждает, что все это делается для блага его величества короля». Незадолго перед Пасхой Голицына, Филарета и других послов заманили в королевский лагерь и арестовали. К пасхальному столу король прислал им кусок говядины, старого жесткого барана, двух ягнят, козу, четырех зайцев, тетерева, четырех молочных поросят, четырех гусей и семь кур, извинившись, что не может лучше угостить их, поскольку Русская земля не слишком-то гостеприимна. Затем послов увезли в Варшаву и заточили в тюрьму.
Это грубое насилие не прибавило королю сторонников ни в Москве, ни в Смоленске. Всю весну и начало лета смоленцы отбивали непрерывные штурмы. Однако силы их слабели от болезней, главным образом от цинги, страшно опустошавшей ряды защитников города. Наконец в июле полякам удалось внезапным приступом овладеть участком стены. Они заминировали ее, взорвали, и королевское войско через пролом безудержным потоком хлынуло в город. Множество народу укрылось в соборной церкви. Когда поляки ворвались туда, они увидели архиепископа Сергия, в архиерейском облачении, молившегося перед распростертым у его ног народом. Поляки остановились, пораженные священным ужасом: молодой архиепископ, с ниспадающими на плечи белокурыми локонами, показался им самим Христом. Они пощадили собор, но в городе уже возник пожар, от которого взлетел на воздух городской арсенал. Взрыв был страшный, польский участник штурма вспоминал: «Ужасно было слышать и смотреть: не то землетрясение, не то молнии и громы, не то все это вместе». От взрыва соборная церковь рухнула и погребла под собой множество находившихся там людей.
В течение четырех часов Смоленск превратился в груду дымящихся развалин. Шеин с женой, сыном и несколькими десятками стрельцов заперся в одной из башен и яростно защищался. Вероятно, он искал смерти, но семья уговорила его сдаться. Попали в плен также архиепископ Сергий и другой воевода, Петр Горчаков. Поляки, потерявшие всего 30 человек убитыми, захватили в городе запасы продовольствия, которых, по словам польского участника штурма, было так много, «что скорее бы они заморили нас голодом, чем мы их».
Удовлетворенный Сигизмунд оставил в Смоленске гарнизон, распустил остальное войско и уехал в Вильно справлять триумф. Навстречу ему выехали все знатные паны, возле воздвигнутой в его честь триумфальной арки стояли иезуиты и виленские академики. Под звуки