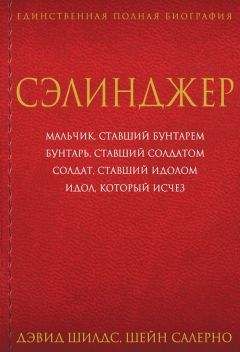Таково озарение, снизошедшее на Бадди Гласса в «Симоре». Автор имеет обязательства только перед своим вдохновением и своими звездами, а истинной мерой его работы является вера, с которой она выполнена. И как ранее Фрэнни, Бадди, подобно всем персонажам Сэлинджера, вдруг постигшим истину, засыпает блаженным сном.
Мое сугубо личное мнение заключается в том, что ощущение анонимности-незаметности — это вторая по значимости потребность писателя во время его творческой деятельности.
Дж. Д. Сэлинджер. Фрэнни и Зуи (Текст на суперобложке, 1961)
Номер «Нью-Йоркера» с напечатанной в нем повестью «Симор: Введение» вышел 6 июня 1959 года. Иллюстрация на обложке изображала трех детей в поле с восторженно воздетыми к небу глазами. Ярые почитатели Сэлинджера восприняли необычное сочинение с восхищением, однако общая реакция на «Симора» оказалась в лучшем случае смешанной. Значительная часть читателей просто не знала, как воспринимать повесть. Что это, осуждение или признание? Художественное произведение или авторская исповедь? Литература ли это или просто сеанс самопогружения?
В то время как читатели пытались проникнуть в смысл повести, а критики пребывали в шоке от его, казалось бы, неряшливого стиля, дискуссия по поводу нового произведения Сэлинджера развернулась немедленная и яростная. В результате «Симор» получил статус обязательного чтения на 1959 год, а журнал полностью разошелся, на что, собственно, редакция «Нью-Йоркера» и рассчитывала. Независимо от своих литературных достоинств — о них Уильям Шон ничего не знал, когда принимал «Симора», — повесть была обречена на коммерческий успех в силу высочайшей репутации Сэлинджера.
Однако те же веские причины, что обеспечили продажу «Нью-Йоркера», поставили самого Сэлинджера в неловкое положение. Еще до того, как газеты и журналы опубликовали первые рецензии на новую повесть, одни — пренебрежительные, другие — восхищенные, номер «Нью-Йоркера» был моментально расхватан фанатами Сэлинджера. Остальная же масса его почитателей, уже рассеянных по всему миру, сочла несправедливостью со стороны автора его обращение к очень малой группе людей, имеющей доступ к «Нью-Йоркеру». Прошло уже почти десять лет с момента публикации «Над пропастью во ржи» и шесть после выхода под одной обложкой «Девяти рассказов». Что же касается нового романа о семье Глассов, то на его появление не только надеялись, его определенно ожидали. Вообще-то в редакции «Нью-Йоркера» Сэлинджер уже с 1955 года неоднократно обещал завершить роман о Глассах.
Ознакомившись с «Симором», читатели легко угадали, что под личиной Бадди Гласса скрывается сам автор. А упрек Бадди в адрес читателей, которые «где-то прочли дурацкую выдумку о том, будто я полгода провожу в буддистском монастыре, а другие полгода — в психбольнице», только укрепил бытующее мнение, что Сэлинджер — высокодуховный, хоть и несколько эксцентричный отшельник. Что касается Сэлинджера, то свою роль он сыграл хорошо. Подделываясь под Бадди Гласса, он вскоре после выхода «Симора» стал появляться в Дартмутском колледже, где часами работал в библиотеке, очень напоминая литератора-эстета, каким можно представить себе Бадди. Он ненадолго отрастил бороду и стал носить костюмы из грубой хлопчатобумажной ткани с клетчатыми рубашками, одинаково подходящие как для рубки дров, так и для ученых занятий. А для довершения образа эдакого задумчивого гения Сэлинджер начал курить трубку, испускавшую клубы ароматного дыма.
Играя эту роль, Сэлинджер держался на виду у любопытной публики, но всегда на определенном расстоянии. Попросту говоря, он удостоверился, что выбрал правильный образ, и показывался в нем перед людьми, чтобы внушать восхищение, но не приближался к ним, чтобы не оказаться предметом пристального внимания. Сэлинджер вступил в игру на собственный страх и риск, но в ней ему было суждено проиграть.
К концу 1959 года Сэлинджер успел показать себя в самых разных ипостасях: молодого писателя, борющегося за признание, героя войны, отвергнутого влюбленного, эстетствующего интеллектуала, рупора поколения. Но одной ипостаси все-таки не хватало. В конце 1950-х годов американское общество начало пробуждаться к социальной и политической активности, невиданной со времен Войны за независимость. К таким темам, как атомная бомба, расовая сегрегация и непропорциональное распределение богатства, стали обращаться художники и поэты, писатели и драматурги. Сэлинджер тем не менее никогда не выказывал особого интереса к политике. За исключением «Грустного мотива», где проклинается расизм, его произведения не касаются современных социальных вопросов.
Сэлинджер презирал политиканство любых оттенков. Его письма к Лернеду Хэнду показывают, что он безоговорочно верил в идеалы, на которых построено американское общество, и считал, что недостатки в области государственного управления, политики и культуры следует преодолевать для защиты именно этих идеалов. К тому же у Сэлинджера были знакомства, дававшие ему уникальную возможность вникать в суть текущих событий и цементирующих общество принципов. Помимо Хэнда, и на старости лет не отошедшего от общественной деятельности, Сэлинджер поддерживал тесные отношения с Джоном Кинаном, своим товарищем по контрразведке. После войны Кинан поступил на службу в Департамент нью-йоркской полиции, где вышел в начальники. Имея рядом таких хорошо информированных людей, Сэлинджер однажды совершил свое первое и единственное вторжение в область публичной социальной политики.
Осенью 1959 года газета «Нью-Йорк пост» напечатала статью Питера Дж. Макэлроя под названием «Кто вступится за отверженных?». В ней осуждался закон штата Нью-Йорк, отметавший всякую возможность досрочного освобождения заключенных, приговоренных пожизненно. Для Сэлинджера, который, скорее всего, знал об этом законе от Хэнда и Кинана, название статьи прозвучало как приглашение к действию. Девятого декабря «Нью-Йорк пост» напечатала его ответ на сорок девятой странице. «Правосудие, — писал Сэлинджер, — это такое слово, которое в лучшем случае заставляет нас отводить глаза или поднимать воротник, а немилосердное правосудие — вообще мрачнейшее, леденящее душу словосочетание». Позиция Сэлинджера была ясна, а его письмо редактору дышало гневом. Закон штата Нью-Йорк, запрещающий досрочное освобождение, грешил, по мнению Сэлинджера, не только отсутствием «милосердия», но также категорическим неприятием раскаяния и искупления. Даже если преступник полностью перерождался, приговор пересмотру не подлежал. Таким образом, государство обрекало раскаявшихся людей, как с негодованием писал Сэлинджер, «на загнивание в прекрасных санитарных условиях, в вентилируемых камерах, намного превосходящих все то, что им могли бы предложить в XVI веке». Сэлинджеру, видевшему в Спасении цель жизни, непризнание штатом Нью-Йорк права на Спасение представлялось святотатством. А жертвы этого святотатства казались ему «самыми несчастными из изгоев».