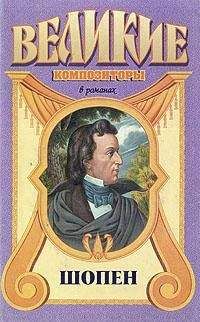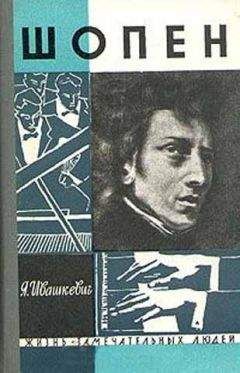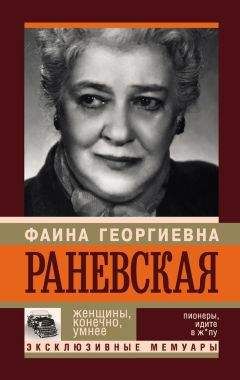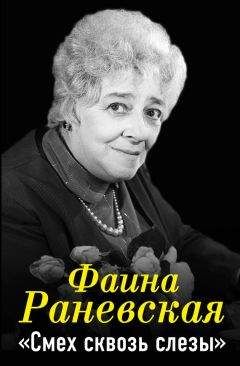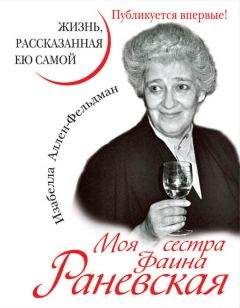Это уже было однажды. Здесь, в Дрездене. Он видел Сикстинскую мадонну Рафаэля и вспомнил родину. Но то было другое, то был Моцарт. И потом это было очень, очень давно.
«…Вот видишь, Ясь, я тебя не послушался, и у меня начался жар. Но позволь мне еще немного помечтать, а там я встану и приму порошок. Да. Я спущу штору и спокойно усну. Но прежде я хочу узнать, в чем неуловимая прелесть этого легкого стана и неправильного лица. Хочу уловить звучащую мелодию, а не только ноты. Ускользающий, манящий облик… Погоди! Ты думаешь, я отклоняюсь от тональности? Нет, Ян, не бойся, я все равно вернусь к ней. Фа-минор, не так ли? Видишь, я помню. И – непрерывный поток. Только неясно, где ударения. Как ты думаешь? По два или по три? Если прислушаться к левой руке, то по два. А в правой– триоли… Что ж? Пусть ученики приучаются к трудному размеру…»[24]
Он вытягивает и сжимает пальцы, пытаясь представить себе смешение двух несходных размеров, но музыкальный поток, помимо его воли, бежит вперед, значительно опережая замысел. Все развивается по каким-то особым законам, поток бежит, быстрый, но не бурный, красиво изгибающийся, но весь на виду.
К сожалению, он скоро кончается, и нельзя продлить его бег – это нарушит законы красоты. Счастье коротко, зато оно полно.
…Через некоторое время он поднялся. Но не затем, чтобы принять порошок. Он опустил оконную штору. Но не для того, чтобы спокойно уснуть в темноте… Он зажег свечу и достал нотный лист. Напрасно говорят, что утро вечера мудренее: утром забудешь то, что открылось ночью. Поток разольется, утратится его звонкость, замедлится его быстрота. Но даже записывая мелодию, невольно меняешь ее: вот уже что-то грустно-щемящее появилось в ней.
– Я хотела бы жить в Париже, – заявила Марыня, – но только не всегда. Хорошо было бы: в Париже– зимой, а летом – в Польше!
– Ишь чего захотела! – воскликнул Казимеж.
– Нет, мне нравится в Польше и зимой, – сказал Фридерик. – Я помню сани с бубенчиками, рождество. В один из мрачных часов моей жизни я вспоминал все это. Я был далеко от дома, в Вене, в соборе… Вот после этого я написал скерцо.
– Но почему же только скерцо? – спросила Мария. – А остальные части?
Она знала, что в сонате и симфонии скерцо было одной из частей, обычно второй.
– Нет, это не соната, – ответил Шопен, – это самостоятельная форма. Какой-то вихрь образов… А средняя часть-песня. Это было как раз в сочельник. Я был одинок до отчаяния. И вдруг…
Охваченный воспоминанием, он рассказал про свое видение в соборе.
Юзя Водзиньская, которая читала книгу, внезапно подняла голову и спросила:
– Что же было дальше?
– Увы, прекрасная картина вскоре исчезла, и мне стало еще тяжелее.
Должно быть, ему очень хотелось сыграть это. Мария сказала:
– Покажите нам.
Он играл, переживая все сызнова: одинокую ночь в соборе святого Стефана, темноту и внезапное видение– свою семью за праздничным столом.
Но когда средняя часть – колядка – кончилась, он вернулся к действительности и в конце раздался шестикратно повторяемый крик боли: шесть резких диссонирующих аккордов, которые должны были знаменовать этот мучительный переход, – пани Водзиньская вздрогнула и Марыня также. Фридерик заметил это и скомкал конец.
– Это чудесно! – сказала Мария. («Вариация слова «прелестно».) А средняя часть очень… певуча.
(«Слава богу, кажется, подходит!») Только зачем эти пронзительные аккорды? Это слишком. Видите, мама даже испугалась. А вообще я с удовольствием слушала…
«Средняя часть певуча…» Поняла ли она, что значит для него эта колядка? И как он связывает ее теперь со своей любовью?
– Мне кажется, Фрицек, это не лучшая твоя вещь, – сказала пани Тереза, – у тебя такой изящный вкус – и вдруг эти ужасные аккорды! По-моему, ты должен их убрать!
– Ах, мама, пан Фридерик сам знает, что ему делать! – вмешалась Мария. – Но это действительно немного резко.
Потом уже, приведя его в свою комнату, она пожелала смягчить боль, нанесенную его самолюбию. Она протянула ему сверток. Это был его портрет.
– Я сняла его с мольберта. Посмотрите. Я сейчас разверну.
Смеркалось, он взглянул на портрет.
– Спасибо, – сказал он тихо. – Очень похоже.
– Мне тоже так кажется. Не забывайте, что это работа любительницы. Но узнать можно. Я добросовестно трудилась…
– Мария! – начал он вдруг, – я должен сказать вам…
Она взяла из его рук портрет и положила его на столик.
– Я знаю, – сказала она. Но тут же замолчала.
– Марыня, неужели ты плачешь? – Он протянул к ней руки.
– Да. – Она улыбнулась сквозь слезы. – Видите ли, это не от меня зависит. Мы писали отцу. И он прислал нам громовой ответ. Но не будем отчаиваться, он меня так любит! Я почти уверена, что добьюсь своего!
– Ах, Марыня, одно твое слово!
– Оно так много значит для вас? Хорошо! Она подошла к двери и позвала:
– Мама!
Пани Тереза вошла не сразу.
– Что тебе? Ты бы зажгла лампу, Мария.
– О нет! Мне нравятся эти сумерки… Графиня всматривалась в лицо дочери.
– Мама, ты можешь поздравить нас. Это решено, Ведь ты на нашей стороне?
Пани Тереза вынула платочек из кармана.
– Вы оба знаете, что я на вашей стороне. Но ты, дружок мой, знаешь также и своего отца. Во всяком случае, пока ваша помолвка должна оставаться тайной.
И она заплакала. Сватовство, начатое ею, завершилось удачно. Она все время поощряла Шопена. Но теперь, услыхав решительное сообщение Марии, произнесенное необычно звонким голосом, графиня испугалась. Жена парижского музыканта? И это всё? Так обыкновенно складывается судьба блестящей девушки, над колыбелью которой собрались все добрые волшебницы? Вот что делает революция! Ее последствия долго тяготеют над родовитыми людьми!
И графиня еще пуще заплакала, сославшись на нервы, которые не переносят ни радости, ни горя, ни малейшего волнения!
Как и в прошлом году, Фридерик решил на обратном пути заехать в Лейпциг, навестить Шумана. По просьбе самого Шумана, он остановился у него, а не в гостинице, тем более что собирался пробыть в Лейпциге всего один-два дня.
Он застал Шумана в горячке работы, среди вороха бумаг. Шуман записывал свои темы на отдельных листках, потом скреплял их. Он уверял, что именно так работал Бах.
– Но ведь это отнимает много времени! – сказал Шопен.
– Напротив, только сохраняет!
Шуман был упрям. Придумав какой-нибудь способ, якобы облегчающий его труд, он отстаивал свое изобретение, даже убедившись в его ошибочности или вредоносности. Так было с упражнениями для укрепления пальцев, которые он придумал несколько лет назад: привязав пальцы длинной нитью к крючьям, укрепленным на потолке, он пытался играть так и из-за этого чуть не сделался калекой.