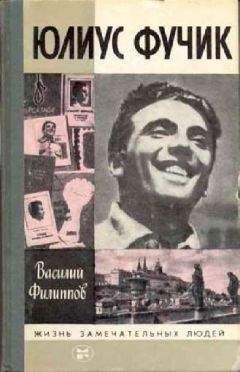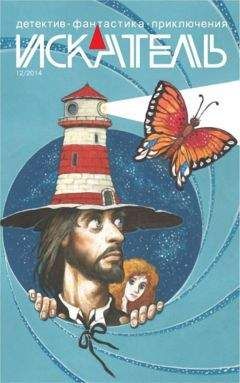— Подействуйте на него, пусть возьмется за ум. Если он не думает о себе, пусть хоть о вас подумает, Даю вам час на размышления. Если он и после этого не заговорит, вас сегодня вечером расстреляют. Обоих.
— Господин комиссар, — твердо ответила Густа, — это для меня не угроза. Это моя последняя просьба, если вы казните его, казните и меня!
— Вон отсюда! — злобно закричал Лаймер. Последний «сюрприз» Бёма, последняя его «козырная карта» — свидание с Густой 23 февраля 1943 года, в день рождения Юлиуса. Всем своим видом — худощавый, подтянутый, даже элегантный, в отлично сидящем костюме — комиссар хотел облегчить Фучику выбор — выбор между жизнью и смертью. Все он учел, но не учел одного обстоятельства. В этот день был еще один «именинник» — Красная Армия, которая разгромила гитлеровскую армию под Сталинградом. Фучик видел, как совсем недавно в Панкраце на февральском ветру долго плясал и хлопал траурный флаг со свастикой. Оккупантам, видимо, совсем пришлось туго, если они позакрывали театры и объявили траур. Раньше они все-таки держали в секрете свои военные неудачи.
Видя, что Фучика не склонить к измене, Бём вспомнил последний вечерний разговор в Праге:
— Когда не будет нас… Значит, ты все еще не веришь в нашу победу?
Он задавал этот вопрос потому, что не верил сам. И он внимательно слушал однажды то, что я говорил о силе и непобедимости Советского Союза. Это был, кстати сказать, один из моих последних допросов.
— Убивая чешских коммунистов, вы с каждым из них убиваете частицу надежды немецкого народа на будущее, — не раз говорил я Бёму. — Только коммунисты могут спасти его.
Он махнул рукой.
— Нас уже не спасешь, если мы потерпим поражение. — Он вытащил пистолет. — Вот смотри, последние три пули я берегу для себя. (При попытке перейти границу около города Хеб осенью 1945 года Бём был задержан и предстал перед чехословацким судом. — В. Ф.)
Весной 1943 года гестапо передало дело Фучика судебному следователю. Итак, конец единоборству? «Тринадцать месяцев боролся я за жизнь товарищей и за свою. И смелостью и хитростью. Мои враги вписали в свою программу „нордическую хитрость“. Думаю, что и я кое-что понимаю в хитрости. Я проигрываю только потому, что у них, кроме хитрости, еще и топор в руках».
Теперь осталось только ждать, пока составят обвинительный акт, две-три недели.
От немецкого следователя Келлерунга сразу повеяло холодом. Он ни добр, ни зол, не засмеется и не нахмурится, он просто подводит дело под параграфы. Угрызения совести его не мучили. Закон четко предписывал карать государственную измену, попытки «насильственного отторжения части имперской территории», «содействие врагам империи» смертной казнью, и Келлерунг требовал вынесения такого приговора для всех троих: Фучика, Клецана и Плахи.
В тот день, когда Фучик узнал, что его дело передано судебному следователю, он решил попросить у Ёолинского карандаш и бумагу. Он помнил, как однажды вечером надзиратель молча проводил его, идущего с допроса, до камеры, и, сделав вид, будто обыскивает его, неожиданно спросил, не хочет ли он написать что-нибудь о своем пребывании в тюрьме. Колинский даже принёс бумагу и карандаш, но Фучик ответил:
— Я напишу обо всем после войны. Тогда я смогу все спокойно обдумать.
Теперь ситуация изменилась. Его ждет суд. Густу отправляют в концлагерь Равенсбрюк.[3]
— Господин Колинский, я хотел бы с вами переговорить, — тихо сказал ему Фучик во время вечернего обыска. — Я надумал. Насчет записок, понимаете? Мне нужны карандаш и бумага, но я не хочу вас принуждать. Вы тоже должны хорошенько подумать. Мне уже все равно. Недели через две, а может быть, и через два дня меня повезут на суд. Я знаю, что меня ждет. Поэтому, если они пронюхают, то самое большее, что они могут сделать, — это избить меня. Мне уже нечего терять, веревка мне обеспечена. Но дело не во мне. Вы рискуете головой.
— Не беспокойтесь, об этом никто узнать не должен и не узнает, — твердо ответил Колинский.
Так Фучик в апреле 1943 года начал писать на небольших листочках папиросной бумаги — их всего сто одиннадцать — «Репортаж с петлей на шее».
«Я приходил на дежурство, и, улучив минутку, заносил ему в камеру бумагу и карандаш, — рассказывал позже Колинский, — каждый раз по нескольку листов. Он все это прятал в свой соломенный тюфяк. После обхода каждого крыла — а их было три, переход от глазка к глазку занимал минут двадцать — я останавливался у камеры № 267, в которой сидел Фучик, стучал в дверь и тихо говорил: „Можете продолжать“. И он знал, что может писать дальше. Пока Фучик писал, я прохаживался возле камеры и охранял его. Если меня снизу, из коридора, вызывали, я стучал в его дверь два раза, и он должен был все прятать. Ему приходилось часто прерывать работу, прятать ее в тюфяк, а потом доставать снова. Писать он мог только во время моих дневных дежурств. Случалось, напишет странички две и все. И стучит мне в дверь: не могу, нет настроения. Иногда — это бывало по воскресеньям, когда в тюрьме поспокойней, если вообще про тюрьму можно так сказать, — он писал и по семь страниц. В эти дни он стучал в дверь камеры и просил меня поточить карандаш. А бывали дни, когда Фучик вовсе не мог писать, грустил. Значит, он узнал о гибели кого-нибудь из друзей. Перестав писать, он стучал и отдавал мне исписанные листки и карандаш. Его работу я прятал в самой тюрьме, в туалете, за трубой резервуара с водой. У себя во время дежурства я никогда ничего не держал, никаких писем, которые через меня некоторые заключенные посылали своим родным, никаких других письменных материалов. Вечером, уходя домой, я прятал исписанные листки за подкладку крышки портфеля на тот случай, если портфель захотят осмотреть. Несколько раз Фучик отдавал исписанные страницы надзирателю Ярославу Горе».
Колинскому помогли установить контакт с Иржиной Завадской, которая приезжала в панкрацкую тюрьму навещать своего дядю Ярослава Маршала, бывшего до оккупации подполковником чехословацкой армии и не успевшего уйти за границу. После этого Колинский трижды в месяц передавал Иржине тонкие листочки, испещренные густым, мелким, четким почерком, а она с максимальными предосторожностями отвозила их в небольшой городок Гумполец на Чешско-Моравской высочине. Старики родители сначала прятали их в сарае, где хранился уголь, а потом, боясь, что они истлеют от влаги, запаяли их в банки для варенья и закопали в землю.
Кто из этих людей мог предположить тогда, что эти странички на тонкой папиросной бумаге после окончания войны, самой страшной и разрушительной в истории человечества, будут изданы на чешском, а затем переведены на русский, английский, французский, испанский, итальянский, арабский, шведский… на более чем 90 языков народов мира?