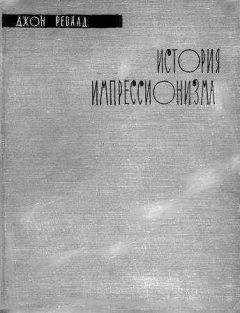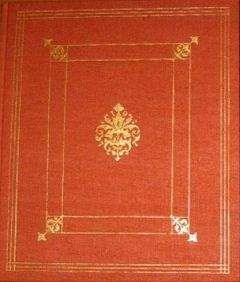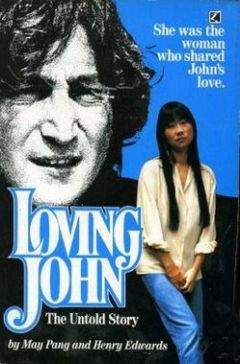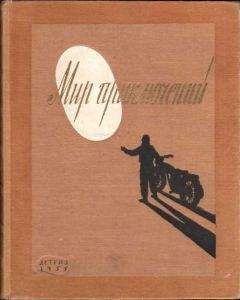Но Гоген еще недостаточно верил в свои силы, чтобы быть смелым, и предпочитал следовать за своим учителем. Когда он вернулся после каникул в Париж в свой банк, ему так сильно недоставало Писсарро, что он жаловался в письме: „Я слышал, как вы проповедуете теорию, что для того, чтобы писать, совершенно необходимо жить в Париже и находиться в курсе идей. Никто бы не сказал этого сейчас, когда все мы, бедняги, варимся в кафе „Новые Афины", в то время как вас ничто ни на секунду не отвлекает и вы живете отшельником… Надеюсь, вы наведаетесь к нам в ближайшее время". Гоген также спрашивал: „Нашел ли господин Сезанн точную формулу работы, приемлемую для всех? Если он найдет рецепт для того, чтобы выразить все свои ощущения единым и единственным способом, попробуйте дать ему одно из этих загадочных гомеопатических лекарств, чтобы он проговорился во сне, и немедленно приезжайте в Париж поделиться с нами".[543]
Нервный и подозрительный Сезанн не слишком хорошо принял эту шутку и всерьез начал опасаться того, что Гоген хочет украсть у него его „маленькое собственное ощущение".
Плохое состояние здоровья вынудило Мане послушаться совета доктора и уехать на отдых в деревню. В 1880 году он отправился в Бельвю, в окрестностях Парижа, а в 1881 году снял дом с садом в Версале. „Деревня таит в себе прелесть для тех, кто не обязан там жить",[544] — жаловался он Астрюку, но в то же время пытался как можно лучше использовать ее. Не имея возможности работать над большими картинами, он начал писать у себя в саду, наблюдая необыкновенную игру света, которая так привлекала импрессионистов. Занимаясь этим, он полностью воспринял их технику мелких, живых мазков, так же как их светлые краски. Различные уголки сада в Версале, которые он писал, отмечая каждое движение света, переданы в подлинно импрессионистской манере. Они свидетельствуют о его виртуозности и в то же время о пристальном наблюдении природы. Превосходные результаты его работы не помешали, однако, Фантену обвинить Мане в том, что он „деградирует из-за контакта с этими бездарными живописцами, которые производят больше шума, чем творят"[545].
Возвратившись в Париж, Мане был приятно удивлен, увидев своего друга Антонена Пруста на посту министра изящных искусств в кабинете, сформированном Гамбеттой. Одним из первых мероприятий Пруста было приобретение для государства ряда картин Курбе. Все, что находилось в мастерской художника, продавалось в то время с аукциона, чтобы покрыть расходы по восстановлению Вандомской колонны. Пруст также внес в список представленных к ордену Почетного легиона Фора и Мане. Ренуар, получивший эти вести на Капри, был в восторге.
„Я давно собирался написать вам о назначении Пруста, — писал он в декабре Мане, — но так и не собрался. Однако мне только что попал в руки старый номер „Petit Journal", с восторгом отзывающийся о приобретении картин Курбе, что доставляет мне крайнее удовольствие не из-за самого Курбе, бедняга уже не может насладиться своим триумфом, а из-за всего французского, искусства. Наконец все-таки появился министр, который понимает, что во Франции существует живопись. Я рассчитывал в следующем номере „Petit Journal" увидеть вас кавалером Почетного легиона, что заставило бы меня рукоплескать на моем далеком острове. Но, надеюсь, это только задержка, и когда я вернусь в столицу, то смогу приветствовать вас как художника, любимого всеми, официально признанного… Не думаю, что вам покажется, будто в этом письме есть хоть один комплимент. Вы веселый боец, не испытывающий ненависти ни к кому, подобно древнему галлу, и я люблю вас за эту жизнерадостность, которую вы сохраняли даже тогда, когда царила несправедливость"[546].
С Капри, где было написано это письмо, Ренуар отправился в Палермо и там 15 января 1882 года, на следующий день после того как Вагнер закончил „Парсифаля", за один короткий сеанс написал портрет композитора, который не хотел уделить этому делу больше двадцати пяти минут.[547]
Ренуар сделал этот портрет по просьбе своего старого друга судьи Ласко, который вместе с Базилем и Метром водил его на первые концерты Вагнера в Париже. Затем художник возвратился в Неаполь, где останавливался по пути на юг, привлеченный городом, бухтой и Везувием, а также и музеем. Но поездка в Италию была подсказана Ренуару его желанием изучить работы Рафаэля, что он и сделал в Риме после того как провел некоторое время в Венеции, рисуя лагуну, восхищаясь Веронезе и Тьеполо. Он был полон этими новыми впечатлениями и писал Дюран-Рюэлю из Неаполя:
„В Риме я ходил смотреть Рафаэлей. Они великолепны, и мне следовало посмотреть их раньше. Они полны знания и мудрости. В противоположность мне он не старался найти невозможное.
Но это прекрасно. В живописи маслом я предпочитаю Энгра. Но фрески восхитительны в своей простоте и величии".
Собственной же работой он не был удовлетворен. „Я все еще одержим болезнью исканий. Я недоволен и соскабливаю, все еще соскабливаю. Надеюсь, эта мания будет иметь конец… Я похож на ребят в школе. Страничка должна быть аккуратно написана, вдруг… бац — клякса. Я все еще делаю кляксы — а мне уже сорок".[548]
Несмотря на все эти ошеломляющие впечатления, Ренуар все же писал коллекционеру Дедону: „Я немного скучаю вдали от Монмартра… Я мечтаю вернуться домой и нахожу, что самая уродливая парижанка лучше самой красивой итальянки".[549]
На обратном пути в Париж Ренуар встретил в Марселе Сезанна и решил побыть с ним немножко в Эстаке. Там он нашел природу, не меняющуюся во все времена года (это был январь 1882 года), пейзаж, каждый день залитый одинаково ярким светом. Восхищенный, он отложил свое возвращение в Париж, где мадам Шарпантье ожидала его, рассчитывая, что он сделает пастельный портрет одной из ее дочерей. „Я сейчас многому учусь, — объяснял он ей, — и чем дольше проучусь, тем лучше будет портрет… Здесь постоянно солнечный свет, и я могу соскабливать и снова начинать сначала сколько мне вздумается. Это единственный способ научиться писать, а в Париже приходится довольствоваться малым. Я многое изучил в музее Неаполя. Живопись Помпеи чрезвычайно интересна со всех точек зрения; к тому же я нахожусь на солнце не для того, чтобы писать портреты при полном солнечном свете, но, греясь и много наблюдая, надеюсь, приобрету простоту и величие старых мастеров.
Рафаэль, не работавший на открытом воздухе, тем не менее изучил солнечный свет, так как его фрески полны им. Так, в результате наблюдений на пленере я перестал возиться с мелкими деталями, которые гасят солнце вместо того, чтобы зажигать его".[550]