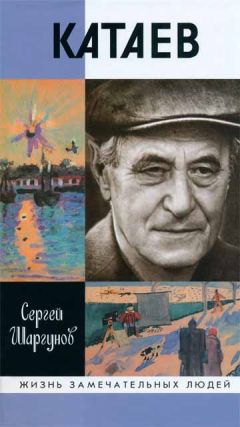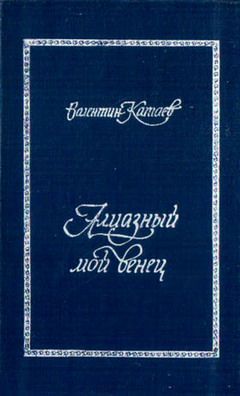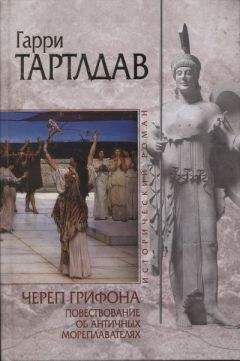Судя по всему, Катаев прощупывал Кирпотина, работавшего в ЦК. Но прощупывал нагловато. Ведь о его дерзости «слишком голый» в отношении тезиса Сталина мог узнать вождь.
Вот Мейерхольд, тогда же пригласивший к себе Кирпотина, рассыпался в любезностях и похвалах — постановление о разгроме РАППа даже висело у него на стене, «как драгоценная картина». «Это был спектакль, — пишет Кирпотин. — Он рассчитывал, что о его радости и одобрении через меня узнают высшие партийные начальники, а может быть, и сам Сталин».
Интересно, что Кирпотин выложил катаевские слова Анатолию Луначарскому (и вероятно, не ему одному). «Он был уже очень болен, но интереса к литературе не потерял, — вспоминал Кирпотин реакцию Луначарского. — Выслушав мой рассказ о прогулке с Катаевым, улыбнулся: “Значит, собственного разумения в голове нет? Собственного Бога в душе нет?”».
Да было, было всё, Анатолий Васильевич (к чему улыбка?), были у Катаева и разумение, и стиль, только в созданных при вашем участии реалиях ему еще и жить хотелось, и при этом желательно — жить — не тужить.
Похоже, досада Катаева проистекала и из того, что к тому времени ему удалось найти подход к одному из видных рапповцев Владимиру Ермилову. По крайней мере, летом 1932 года в письме жене Кирпотин сообщал: «Подвыпивший Валентин Катаев выбалтывал то, чем, видимо, начинил его Ермилов: дескать, началась в литературе реакция, что в “Красную новь” никто теперь писать не будет и т. п.».
В октябре 1932-го с помпой было отмечено «сорокалетие творческой деятельности» Горького, окончательно вернувшегося на родину — собирать писателей под сенью своего славного имени. В том октябре Чуковский записал в дневнике со слов Тихонова, с которым ужинал в шашлычной: «Кабак хорош… Для драки… Мы в таком кабинете Катаева били. Мы сидели за столом, провожали какую-то восточную женщину. Это было после юбилея Горького. Был Маршак. Ввалился Катаев и все порывался речь сказать. Но говорил он речь сидя. Ему сказали: “Встаньте!” — Я не встаю ни перед кем. “Встаньте!” — Не встану. Возгорелась полемика, и Катаев назвал Маршака “прихвостнем Горького”. Тогда военный с десятком ромбов вцепился в Катаева». Итак, раздраженное отношение Катаева к Горькому и его «прихвостням», замеченное нами еще в связи с поездкой в Сорренто, теперь обернулось дракой[88].
26 октября Горький пригласил на Малую Никитскую на встречу к себе и к Сталину 45 человек, среди них — Катаева. До этого, 20 октября, там же Горький и Сталин встречались с несколькими партийными писателями. «Писатели пойдут, как плотва, — пообещал вождь богатый улов, но на комплименты доверительно признался: — Я три ночи подряд почти не спал». Следующая попойка уже с участием Катаева продолжалась с вечера до утра. Сталин поднял тост «за товарищей писателей — инженеров человеческих душ» (повторив понравившееся ему выражение Олеши).
«Горький был загипнотизирован Сталиным не меньше нас, — вспоминал Кирпотин, — Сталин успевал и забавляться. Он подпаивал расколовшихся рапповцев, даже как бы стравливал их. Те с петушиной яростью набрасывались друг на друга, сыпали словами. А Сталин с восхищением следил за ними и негромко повторял:
— Острые ребята! Острые ребята!»
На этой вечеринке катаевский собутыльник Ермилов допился до того, что вскочил на стул и трижды прокричал матерное ругательство.
Интересно, что хотя это была и первая встреча Катаева со Сталиным — он сразу же попытался притащить туда товарища, над которым чернели тучи. Как рассказывал Катаев сыну, ему захотелось свести и примирить Сталина с драматургом и сценаристом Николаем Эрдманом. До этого Сталин услышал эрдмановские басни в исполнении прославленного мхатовского артиста Василия Качалова. Как рассказывают, на ночной вечеринке у Сталина с соратниками и любимыми артистами он спросил: «Есть что-нибудь интересное в Москве?» — и захмелевший Качалов начал декламировать:
Вороне где-то бог послал кусочек сыра…
— Но бога нет! — Не будь придира:
Ведь нет и сыра.
Другая басня заканчивалась так:
В миллионах разных спален
Спят все люди на земле…
Лишь один товарищ Сталин
Никогда не спит в Кремле.
Вот что о происшествии писал режиссер и сценарист Климентий Минц: «Сначала все смеялись, а потом улыбки растаяли на лицах. Василий Иванович отрезвел, почувствовал неладное, особенно когда взглянул на пожелтевшие глаза Сталина… и сразу умолк, так и не дочитав басню.
— Что же вы, дорогой Василий Иванович?.. — улыбаясь, произнес гостеприимный хозяин. — Читайте уж до конца. Хотелось бы знать… какая же мораль сей басни?.. А?..»
Слух о происшествии разнесся по Москве. Теперь Катаев просил Горького включить Эрдмана в состав приглашенных. Горький согласился. Но когда Катаев известил Эрдмана, тот отрезал:
— Рад бы, но у меня бега!
О том же в «Рассказах старого трепача» писал режиссер Юрий Любимов, тоже называя фамилию Катаева, просившего: «Коля, Горький тебя просит в восемь быть у него, приедет Сталин, и мы поможем как-то твоей судьбе».
Эрдман предпочел ипподром вождю, и, может быть, благодаря этому с ним на встрече у Горького не случилось скандала, который тенью лег бы и на похлопотавшего Катаева. Зато Сталин оттянулся на Бухарине, допрашивал, дергая за бородку и время от времени замечая: «Врешь!»[89] Николай Эрдман вместе с соавтором (в том числе по басням) Владимиром Массом был арестован в Гагре в 1933-м во время съемок фильма «Веселые ребята», отправлен, как и Масс, в ссылку на три года в Сибирь, годами не мог вернуться в Москву. Говорят, Качалов всю жизнь винил себя за ту необдуманную декламацию. Правда, позже Эрдман стал лауреатом Сталинской премии.
В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года застрелилась жена Сталина 31-летняя Надежда Аллилуева. Катаев подписал письмо писателей, появившееся 17 ноября в «Литературной газете»:
«Дорогой т. Сталин!
Трудно найти такие слова соболезнования, которые могли бы выразить чувство собственной нашей утраты… Мы готовы отдать свои жизни…» Среди подписантов были Олеша, Шкловский, Ильф, Петров, Багрицкий. Многим (Никифоров, Пильняк, Киршон, Кольцов, Авербах, Буданцев, Динамов, Селивановский) через несколько лет во время репрессий действительно пришлось отдать свои жизни. Рядом было напечатано отдельное заявление Пастернака: «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром прочел известье. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел».