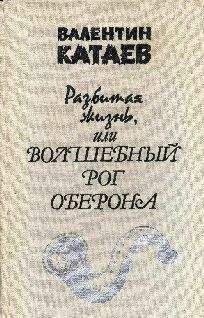Солдаты, державшие аэроплан за хвост, топая сапогами, отбежали в сторону, на них налетела туча пыли, ветер сорвал с их стриженых голов фуражки, «фарман» побежал и под громкое «ура» публики оторвался от беговой дорожки, сделал крутой вираж в воздухе и, обогнув четверть круга, мягко упал на Второе еврейское кладбище, известное, между прочим, тем, что там имелся мраморный памятник с золотой надписью под шестиугольным щитом царя Давида:
«Здесь покоится Лазарь Соломонович Вайншток, корректный игрок в картах».
…Трибуны ахнули… Немедленно к месту катастрофы напрямик поперек ипподрома помчалась, издавая свои хорошо знакомые тревожные гудки, карета «скорой помощи», запряженная парой вороных лошадей, а следом за каретой «скорой помощи» поскакали несколько извозчиков и собственных выездов, в которых стояли взволнованные люди: француз-механик, полицмейстер, несколько студентов-белоподкладочников с биноклями и заплаканная дама в боа из страусовых перьев…
…Мы с Борей с ужасом всматривались в даль, где среди мраморных надгробных памятников Второго еврейского кладбища возвышались два легких крыла севшего набок биплана. Несмотря на самые мрачные наши предчувствия, все обошлось благополучно.
Сначала весело промчалась назад пустая карета «скорой помощи», а за нею не торопясь следовал извозчичий экипаж, в котором, откинувшись на подушки, довольно смущенно сидели целые и невредимые волжский богатырь Иван Заикин и знаменитый писатель в своей шведской куртке, набитой газетами, для того чтобы не простудиться в верхних слоях атмосферы.
За луковицами гиацинтов и тюльпанов, а также за рассадой и семенами цветов тетя ходила в садоводство Веркмейстера.
Иногда ранней весной меня внезапно одолевало чувство, трудно определимое словами, — нечто вроде жажды принять участие в таинственном явлении произрастания семян, в превращении мертвого зерна в живое зеленое растение.
Более точно не могу выразить это чувство.
Это чувство охватывало все мое существо, овладевало всеми моими помыслами и желаниями. Тогда, раздобыв гривенник, я отправлялся в садоводство Веркмейстера на Пироговской улице, против массивного белого здания штаба Одесского военного округа. За глухим каменным забором садоводства на цветочной плантации уже начинались весенние работы: два садовника-немца в картузах и зеленых фартуках откапывали превосходными заграничными лопатами кроны присыпанных на зиму штбмбовых роз, распрямляли их согнутые в дугу тонкие стволы и прикрепляли к ним оловянные ленточки с выбитыми на них названиями сортов.
Кучи хорошо унавоженного, перепревшего и просеянного сквозь сито чернозема голубовато дымились на солнце; в большую кадку текла из крана вода, кое-где валялись дорогие плоские лейки, или, как они назывались в нашем городе, поливальницы, а также совки синей вороненой стали, купленные, несомненно, в магазине железных инструментов и двутавровых балок «Братья Раухвергер», — верный признак того, что садоводство Веркмейстера было поставлено на широкую ногу и пользовалось лишь самым лучшим английским садовым инвентарем.
Семена продавались в глубине участка в маленьком домике, называвшемся конторой.
Сжимая в кулаке гривенник, я входил в маленькую беленую комнатку, где сам Веркмейстер в фуражке и вязаном жилете лично продавал семена, вынимая пакетики из узких ящичков, которые выдвигались из шкафа во всю стену, на манер клапанов фисгармонии.
На прилавке стояли аптекарские весы и фаянсовые банки с развесными семенами, отчего магазин напоминал аптеку.
Веркмейстер с головой Иоганна Себастьяна Баха не торопясь выдвигал узкие ящички, выкладывая на прилавок перед покупателем конвертики с цветной картинкой, изображающей цветок, гораздо более красивый, яркий, хрестоматийно достоверный, чем в природе: анютины глазки, петуния, ночная красавица, резеда, махровая гвоздика, львиный зев, настурция… Все они были пока заключены в мертвых семенах, иногда мелких, как соринки, так что трудно было поверить, что из них вообще может что-нибудь вырасти.
В одной этой комнате в деревянном шкафу с маленькими узкими ящичками помещалось столько будущих цветущих растений, что они могли бы превратить весь наш Причерноморский край в Эдем.
…и это казалось мне настоящим волшебством…
Я долго выбирал семена, перебирая пакетики, в которых, шурша, пересыпались микроскопические зародыши растений, и, в конце концов налюбовавшись цветными картинками, останавливался на вьющихся бобах.
Веркмейстер с величайшей тщательностью отвешивал мне унцию крупных бобов и заворачивал в папиросную бумагу, скрепляя пакетик аптекарской резинкой.
Бобы были большие, тяжелые, и на унцию их выходило штук пять, но зато они стоили дешево — всего шесть копеек, а на остальные деньги Веркмейстер позволял мне набрать в газетную бумагу хорошей садовой земли, он также давал обстоятельные наставления о том, как надо сажать бобы.
Дома я немедленно высыпбл рыхлую черную влажную землю в плошку и закапывал в нее свои большие плоские бобы — твердые и мертвые, как ланжероновские камешки шоколадного цвета, мягко, до глянца обточенные прибоем.
Все вокруг начинало зеленеть.
На кухне зеленела горка, приготовленная для пасхального стола, — пирамидка из щепочек, обтянутая сукном, на это сукно намазывали, как икру, липкие семена кресс-салата, поливали три раза в день, и они вдруг начинали произрастать, выпуская из себя сначала бесцветные червячки первых ростков; затем горка зеленела, как хорошо ухоженный газон, и во всей своей красе и свежести наполняла кухню острым растительным запахом, как бы ждала того дня, когда ее окружат крашеными пасхальными яйцами.
На Французском бульваре на голых конских каштанах надувались и готовы были треснуть громадные почки, как бы густо смазанные столярным клеем.
На кладбище вокруг маминой могилы с мраморной плитой и белым мраморным крестом из сухих прошлогодних листьев, устилавших землю, прокалывая эти полуистлевшие листья, вылезали из земли яркие иглы молодой травы.
Все растения вокруг собирались воскреснуть после зимней смерти.
И я почти не отходил от плошки с посаженными бобами.
…на моих глазах совершалось воскрешение мертвых семян, их таинственное, но совершенно наглядное превращение в зеленое растение. Я видел, как сначала из неподвижных бобов вылезали маленькие бесцветные ростки, как потом эти ростки толстели, наливались соками жизни, согнувшись, впивались в землю, уходили в ее глубь и там начинали укореняться, в то время как бобы все еще продолжали оставаться неподвижными, лишенными признаков жизни…