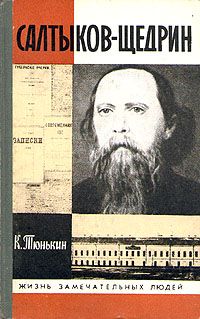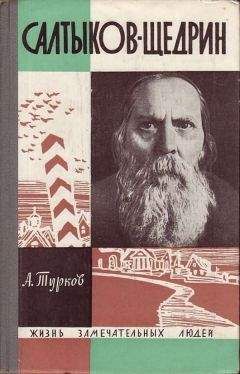Теперь уже уходит в леса не пустынник, взыскующий града небесного, а дворовый холоп, вскормленный и выпестованный грязным бытом помещичьего дома, буфетной, лакейской, конюшни. Да и помещик-то у него нового пошиба — бывший разбогатевший кабатчик Семериков, впрочем, быстро усвоивший себе все самые отвратительные привычки исконного помещичества, его неограниченную власть над мужиком-холопом.
И еще одну школу прошел Иванушка, крестьянский сын. «На четырнадцатом году свезли меня в Москву к повару-французу в учение; жил я в поваренках четыре года и, хвастать нечем, свету большого из-за плиты не видел. Потом, однако, пустили господа по оброку, чтоб еще больше, значит, в науке своей произойти».
И нанялся Иван не в повара, а в лакеи к смирному и доброму барину Михайле Васильичу18, который все книжками больше занимался, а по вечерам господа молодые к нему собирались да разговоры промеж себя вели. А разговоры, видно, были такие, что «пришли к нам гости незваные, и тут же дело наше покончили. Так вот, брат, какова бывает на свете полиция!»
Тошна показалась Ивану после Москвы деревня, да к тому же барин велел ему идти на конюшню за то, что ослушался — не в повара нанялся, а в лакеи.
Жила у барина как бы в экономках Пастухова дочь, Марья Сергеевна. Много вытерпел горя Иван из-за Машеньки, но и счастье великое испытал. И чем же все обернулось? Повалился Иван барину в ноги, клялся-божился, что вечным будет его рабом, только бы на Машеньке жениться дозволил. «На это такую он резолюцию дал: посадить его на ночь в холодную, а наутро в рекрутское присутствие везти. А Машу в ту же ночь на скотный двор сослали, а через три дня в деревню за вдовца за детного замуж отдали».
И бежал Иван от кабальства своего горького в леса дремучие, за разбойничье ремесло принялся. «Народу у нас предовольно. И из Рязани, и из Казани, и из-под самого Саратова, есть и казенные, есть и барские, однако больше барские... Бывают и «кавалеры» <беглые солдаты>: эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются» (то есть от наказания шпицрутенами).
И снится Ивану сон. Стоит будто перед ним его барин, Семеричище-горынчище. «Стоит это преогромный такой, и вширь и ввысь раздался, и всей будто тушей своей на меня налегчи хочет... Начал было я тут тосковать да вперед рваться, чтобы, то есть, жажду свою на нем утолить, однако словно вот сковало меня всего: лежу на земле, ни единым суставом шевельнуть не могу... И вот, братец ты мой, какое тут чудо случилось! Смотрю я на него и вижу, словно стал он, Семеричище, пошатываться да поколыхиваться; ну качался-качался, даже в лицо исказился совсем, да как грохнется вдруг сам собой наземь! Налетели это птицы-коршуны, расклевали телеса его неженные, кости белые люты звери разнесли... Уж куда хорош этот сон!» — сон, символизирующий мечту рвущегося на волю мужика, о гибели барства-помещичества.
Снятся Ивану и другие, страшные сны, сны о неизбежном исходе его разбойничества: приходит он будто в град некий, да не один, а с товарищами: «такие приятели есть, сотскими прозываются»; стоит он «на месте высокиим», и руки к столбу крепко-накрепко привязаны.
Что же это такое, этот русский разбойничий мир, как не мир крестьянского протеста, борьбы за поруганное человеческое достоинство?
Рассказ «Развеселое житье» был напечатан во второй книжке за 1859 году журнала Некрасова и Чернышевского «Современник».
В продолжение 1859 года в разных изданиях печатает Салтыков еще несколько очерков и рассказов из задуманной давно «Книги об умирающих»: «Генерал Зубатов» (генерал-администратор еще николаевской школы), «Гегемониев» (закоренелый чиновник-«подьячий» прошлых времен), «Госпожа Падейкова» (помещица, панически напуганная надвигающейся реформой). Но все это были отдельные фрагменты, так и не сложившиеся в книгу.
Конечно, некоторые категории «умирающих», ветхих людей умерли, ушла в прошлое вскормившая их эпоха, воспитавшие их «прошлые времена». Но многие из них все еще хватаются мертвыми руками за ростки нового, едва нарождающегося, и в этих объятиях искажаются, чахнут эти ростки.
Вдруг в атмосфере «устности и гласности», на скудной — болотистой, злокачественной — почве взросло чахлое древо красноречия — это дитя хилое, больное, слабосильное и, несмотря на свои колючки, весьма безобидное» (очерк «Скрежет зубовный»). Что же произошло, какая причина столь внезапной всеобщей болтливости? «Ближайшие исследования дают повод думать, что первою и главною побудительного причиной было то, что нам вышло позволение говорить, подобно тому как выходят; отставка, определение, отсрочка, новые формы и т. д. Спрашивается: если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить? Если вышла человеку новая форма одежды, может ли он продолжать ходить в старой? Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильным ослушанию воле начальства?» И этим «правом» не замедлили воспользоваться люди ветхие, время которых, казалось, уже кануло в Лету. И эти ветхие люди поганят своим чудовищным сквернословием, своим «скрежетом зубовным» всяческую «устность и гласность».
Сатира на ветхих людей, вдруг предавшихся красноречию, переходит в авторский лирический монолог. Звучит тяжелая, трагическая нота. «К чему эти странные, серые картины, на которых так любит останавливаться уязвленное воображение твое?» Восток, скоро ли заалеешь ты ярким и радостным светом дня? Но нет: «Все ночь, все еще ночь!» — думаю я».
Горькие авторские размышления прерывает спасительный Сон-сказка. Встал, будто встрепенулся Иванушка. И пошел «по той нетореной дороге, где младая жизнь кишит, где цветут цветочки алые, где растет трава шелковая, где поют птицы райские, где бегут ручьи молочные... Любо Иванушке! Глаза у него разгорелися, кудри русые по широким плечам разметалися, ходенем пошла грудь могучая, встрепенулось в ней сердце богатырское, пьет не напьется он воздуха вольного...»
Два года тому назад задумал Салтыков завершить свою «Книгу об умирающих» картиной Иванушки, судящего и рядящего. И вот Иванушку за стол посадили, судит он и рядит, да ведь не сам собой! Посадил его генерал Зубатов (воплощение царской администрации) по приказу начальства! Так в первоначальный замысел была внесена знаменательная поправка, народно-поэтическая символика решительно корректирована ядовитой иронией.
Рассказ «Скрежет зубовный» был написан тогда, когда на смену доброму и покладистому Клингенбергу прибыл в Рязань в качестве губернатора худший из «Зубатовых» — действительный статский советник (то есть штатский генерал) Николай Муравьев, сын министра государственных имуществ M. Н. Муравьева (в 1863 году — жестокого усмирителя польского восстания) — «один из сукиных детей Муравьевых», по выражению Салтыкова. Служебная деятельность Салтыкова осложнилась с самого начала резко враждебными отношениями с новым губернатором. Ему все было ненавистно в этом неумном, напыщенном, заносчивом и самоуверенном тридцатипятилетнем генерале, обладавшем к тому же огромным честолюбием. Приблизительно после месяца общения с новым губернатором Салтыков пишет В. П. Безобразову, что Муравьев «разразился над Рязанью подобно Тохтамышу». «Рязань, — иронически продолжает Салтыков, — может быть, и полюбит это, потому что она и издревле к таким людям привыкла, но для меня подобное положение вещей несносно. Главное основание всех его действий — неуважение к чужой мысли, чужому мнению и чужому труду». Салтыков сейчас же обратился к Н. Милютину с просьбой о переводе его в Тверь или Калугу, А еще через месяц, когда Муравьев собрался в Петербург, перед отъездом он спросил Салтыкова, не желает ли тот об исходатайствовании какой-либо награды. На это Салтыков без обиняков ответил, что величайшею для него наградой будет, если его «разведут» с Муравьевым, и просил, чтобы Муравьев заявил об этом министру. После такого «объяснения» оставаться Салтыкову в Рязани было уже невозможно.