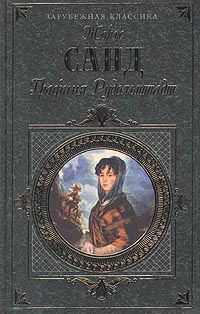«Дорогой Роблен! Я обращаюсь к тебе как к человеку, который имел четырнадцать детей и, познав это несчастье, должен сочувствовать другим. Та крошка, которую ты видел у меня в доме, днем щеголявшая в костюме мальчика, ночью вновь становилась женщиной. Однажды, в бытность ее женщиной, с ней произошел несчастный случай, который в следующем месяце дал себя знать. Г-н Эмиль исчез, а м-ль Эмилия беременна и, следственно, вынуждена через два месяца покинуть меня, а я буду продолжать свое путешествие один. Между 15 и 20 июля она приедет в Париж. Не мог бы ты к этому времени подыскать ей небольшую меблированную квартиру за городом, поблизости от тебя?.. Ответ, дорогой друг, пришли мне по почте в Мальту. Завтра или послезавтра мы отплываем в Палермо… Само собой разумеется, что м-ль Эмилия, как только она вновь станет г-ном Эмилем, сразу же вернется ко мне…»
Дюма хотел жить по принципу «продолжение в следующем номере». Одержав победу в Сицилии, Гарибальди намеревался переплыть Мессинский пролив и выступить походом на Неаполь. У него не хватало оружия, боевых припасов и не было денег, чтобы купить все это. У Дюма пока еще оставалась его шхуна и пятьдесят тысяч франков; с обычной для него великолепной щедростью он предоставил все это в распоряжение «Italia Una»[47]. Гарибальди принял предложение. 7 сентября 1860 года Дюма, без сюртука, в красной рубашке, вступил в Неаполь. Королевское семейство некогда заключило в тюрьму и подвергло пыткам его отца; он изгнал это семейство из столицы. Прекрасная, но запоздалая месть в стиле Эдмона Дантеса.
В Неаполе Гарибальди назначил Дюма смотрителем античных памятников и предоставил ему в качестве «служебной квартиры» Чьятамоне – летнюю резиденцию короля Франциска II. Дюма торжествует. Он руководит раскопками Помпеи. Он основывает газету «L'Independente»[48]. Неаполитанцев забавляет (поначалу) этот грузный человек, щедрый и веселый. Для него начинается новая жизнь, которая позволяет ему забыть о неблагодарности французов.
24 декабря 1860 года «адмирал Эмиль» произвела на свет в Париже маленькую девочку, «Дюймовочку», Микаэлу-Клелию-Жозефу-Элизабету. Селеста Могадор, графиня Шабрийян, была крестной матерью; Джузеппе Гарибальди, через поверенного, – крестным отцом.
Дюма-отец – Эмилии Кордье: «Да пребудут с тобою радость и счастье, ненаглядная любовь моя!.. Ты знаешь, что я как раз хотел девочку. Скажу тебе почему: я больше люблю Александра, чем Мари, – ее я вижу едва ли раз в год, Александра же могу видеть, сколько мне хочется. Всю ту любовь, какую я мог бы питать к Мари, я перенесу, таким образом, на мою дорогую крошку Микаэлу…»
В феврале 1861 года Эмилия уже была в состоянии приехать к Дюма в Неаполь, некоторое время спустя вслед за нею прибыла кормилица с ребенком. Эмилия взяла на себя роль хозяйки дворца.
Объем работы, которую Дюма выполнял в то время для своей газеты, поистине ошеломляет. Политические передовицы, заметки на различные темы, известия из Рима, длинные исторические статьи о легендарной Иский, о Дандоло и, разумеется, фельетон – все выходило из-под его пера. Большие листы голубоватой бумаги, которые он исписал тогда своим писарским почерком, могли бы составить пятнадцать – двадцать томов. Здесь можно найти воззвания, полемику, подстрекательские статьи:
«Двести учащихся школы живописи пришли поблагодарить нас за то, что мы взяли их сторону против преподавателей, видимо, забывших, к чему их призывает долг…» «Пусть муниципалитет даст мне участок, и я, Дюма, найду сто тысяч дукатов, чтобы построить для вас театр…»
Одновременно Дюма собственноручно писал историю неаполитанских Бурбонов в одиннадцати томах, роман («Сан-Феличе»), «Воспоминания Гарибальди». Бенедетто Кроче очень похвально отзывается об одной брошюре Дюма, написанной по-итальянски; она датирована 1862 годом и поднимает вопрос «О происхождении разбоя, причинах его распространения и способах уничтожения». Из этой брошюры явствует, что человек, которого многие считали легкомысленным, лучше всяких экспертов проанализировал конкретные условия для проведения аграрной реформы в Южной Италии.
Плодовитость писателя была по-прежнему неиссякаема; непрекращающаяся битва человека с недоверием способна была привести в отчаяние. Даже Портос и тот нашел бы эту глыбу слишком тяжелой.
Дюма-сын – Жорж Санд, 22 августа 1867 года: «Я получил письмо от папаши Дюма; и он уже потерял мужество. Вот что он пишет: „Десять тысяч нежнейших приветов нашей приятельнице, она не стареет и все так же умело пользуется бумагой, пером и чернилами, а меня они убивают…“ Если папаша Дюма примется сообщать мне свои черные мысли, это будет смешно. Напишите моему отцу и дайте ему все те советы, какие Вы вправе дать, а я – нет… Расскажите ему, какой образ жизни сохраняет Вам молодость и талант, и, быть может, он ухватится за протянутую ему руку помощи. Он такой сильный, а первое побуждение всегда так благородно…»
Что пользы быть сильным, когда другие слабы? Кавур, верный слуга Савойского дома, почел своим безотлагательным долгом выступить против Гарибальди, который, так же как он, стремился к единству Италии, но опирался на республиканцев. Гарибальди был в нерешительности. Дюма, «более гарибальдиец, чем сам Гарибальди», был противником Кавура. Французскому консулу в Ливорно он заявил (тот передал содержание этого разговора в депеше своему министру), что хотел бы изгнать из Неаполя не только Бурбонов, но и нового короля Виктора-Эммануила.
«– В драме, – сказал Дюма консулу, – когда какой-нибудь персонаж уже полностью использован, когда его роль исчерпана, закончена, от него ловко избавляются – его уничтожают. Как раз это мы и собираемся сделать…
– Но когда вы прогоните пьемонтцев, кто же сядет на их место?
– Мы, дорогой мой, мы!
– Кто это мы?
– Гарибальди…
– Но что вы сделаете с Италией?
– Мы, дорогой мой, организуем в Италии федеративную республику».
Жорж Санд, чувствуя, что он несчастен, предложила ему приехать отдохнуть в Ноан; папаша Дюма прислал ей мрачное и пессимистическое письмо-отказ.
Дюма-сын – Жорж Санд, 12 сентября 1862 года: «Право же, мой отец стал капризен. Что заставило его так измениться? Вы, дорогая матушка, сделали больше, чем могли, и быть может, все сложилось к лучшему. Бог знает, что натворила бы эта дикая птица в Вашем воробьином гнезде. Оставьте его в покое. Он вернется к нам, когда ему подобьют крыло.
Что касается нашего друга Гарибальди, то в прошлом году я писал Дидье: «Я, право же, боюсь, как бы мой герой не полинял». Я не ошибся. Между нами говоря, он не из того теста, из которого сделаны поистине великие люди. Люди, возрождающие общество с помощью шпаги, не столь речисты. «Бог толкает меня», – говорил Аттила и шел вперед. Этот же, едва добравшись до какого-нибудь балкона, сразу начинает произносить речи, а любой листок бумаги побуждает его написать прокламацию. Это поэма Данте, оконченная Вьенне. Ради его (Гарибальди) доброго имени я хотел бы думать, что эта развязка была заранее обусловлена с Виктором-Эммануилом и что он сказал королю: «Я слишком много говорил. Я слишком много обещал. Я вынужден идти вперед. Арестуйте меня с оружием в руках, помешайте мне зайти еще дальше». Они дадут друг другу честное слово; Гарибальди получит какой-нибудь лен; из него сделают итальянского Абд-эль-Кадера, и все будет кончено. Бог не допустит, чтобы он кончил публикацией своих «Воспоминаний» с предисловием Жюля Леконта! Впрочем, я за это не поручусь…»