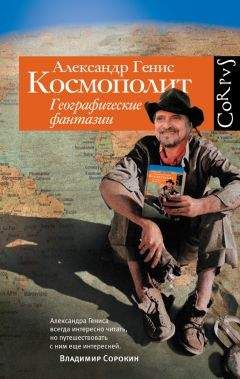Кун Паунда не спорит с другими течениями китайской мысли, а синтезирует их. Так знаком примирения с даосами служат заключительные строки песни, в которых Конфуцию приписывается изречение о тщетности всякого поучения. На самом деле оно принадлежит Чжуан-цзы, чьи притчи жестоко высмеивали Конфуция. Объединяя в Canto XIII учителей Востока, Паунд воплощает мудрость не исторического Китая, а того утопического “Катая”, который он предлагал Западу в образцы.
Canto XIII
Кун шел
мимо династического храма
в кедровую рощу
и спустился к реке.
И с ним были Жань Цю
и Дянь, говорящий тихо.
И “Все мы незнатны”, – сказал Кун.
“Может, вам заняться колесницами?
Тогда вас узнают,
или, может, мне заняться колесницами,
а может, стрельбой из лука?
Или произнесением публичных речей?”
И Цзылу сказал: “Я бы оборону привел
в порядок”.
И Жань сказал: “Если б провинцией
правил,
то получше б навел в ней порядок”.
И Чи сказал: “Я бы маленький храм
предпочел в горах,
с благочинным порядком
и уместным ритуала свершением”.
И Дянь сказал (пальцы на струнах
люни / низкий звук все звучал,
хоть рука и покинула струны —
и, как под листьями – дым, таял звук,
и он провожал его взглядом):
“Старая купальня,
и мальчики плюхаются с настила
или сидят на траве, играя на мандолине”.
И Кун на всех разделил улыбку.
И Гунси Хуа пожелал узнать:
“Кто ж верно ответил?”
И Кун сказал: “Все, все ответили верно,
каждому по его природе”.
И Кун указал тростью на Жун Яна.
(Жун Ян был его старшим.)
Жун Ян сидел на обочине, притворясь
собирателем мудрости.
И Кун сказал:
“Ты, старый дурень, ну/ка вставай,
поднимись и найди себе дело”.
И Кун сказал:
“Нужно уважать дар младенца,
как только вдохнет он чистый воздух,
но кто и в пятьдесят ничего не постиг,
уважения не стоит”.
И еще: “Когда князь соберет вкруг себя
всех мудрецов и художников, не найти его
сокровищам применения достойней”.
И Кун сказал и даже написал на
листьях дерева бо:
“Если внутри человека нет порядка,
порядку не выплеснуться наружу.
И если внутри человека нет порядка,
не будет порядка в семействе его.
И если у князя нет порядка внутри,
не навести порядка ему во владениях”.
И Кун дал миру слова “порядок”
и “братство”
и ничего не сказал о “жизни после”.
И он сказал:
“Всякий может достичь излишка,
легко стрелять мимо.
Трудно устоять посредине”.
И они сказали: “Если кто совершит
убийство,
должен отец его защитить и спрятать?”
И Кун сказал:
“Должен”.
И Кун отдал дочь Гунье Чану,
хоть в тюрьме бывал Гунье Чан.
И он отдал племянницу Нань Жуну,
хоть от дел отставили Нань Жуна.
И Кун сказал: “Ван правил
с умеренностью,
и в его дни содержалась в порядке держава.
И даже я помню
день, что оставил пробел летописцам,
потому, говорю, что не знали, о чем писать.
Но прошло, боюсь, это время —
день, что оставил пробел летописцам,
но прошло, боюсь, это время”.
И Кун сказал: “Без характера вам
не сыграть на инструменте этом
или музыку исполнить, годную для од.
Ветер сдувает цветы абрикоса
с востока на запад.
И устал я удерживать их от паденья”.
9
“Cantos” – провал, который Фолкнер назвал бы блестящим. Трагедия Паунда в том, что мощные по мысли фрагменты, редкие по красоте отрывки, пронзительные по глубине чувства строки и незабываемые по яркости детали не сложились в целое. Эпос не получился. Текст “Cantos” остался в истории литературы, а не просто в истории.
Паунд мечтал создать универсальный язык символов-иероглифов, на котором можно выразить любую ситуацию или явление. Как Библия, “Одиссея” или конфуцианский канон, его “Cantos” предлагали систему образов, вмещающую весь человеческий опыт. Способность “Cantos” описывать вечное и всеобщее должна была сделать поэму “песней племени”.
Не вышло. Паунд не смог дать миру новый язык, а культуре – новый инструмент. Его игра в бисер не состоялась. С ним произошло примерно то же, что с героем Гессе. Йозеф Кнехт, решив проверить ценность Игры, потратил несколько лет на расшифровку каждого знака одной из ее партий. Переведя обобщающие алгебраические символы обратно в конкретный арифметический мир, он уничтожил сокровенный смысл Игры, распустив сотканное полотно на отдельные нити.
Примером удавшейся игры в бисер может служить “Москва – Петушки”. Сращенная из бесчисленных цитат, реминисценций и аллюзий поэма вобрала в себя литературно-исторический контекст двух веков русской культуры. Органичность этого образования делает поэму прозрачной для русского читателя. Успех этот достигнут, однако лишь в пределах своей культуры. Даже в совершенстве знающий язык иностранец не способен разыграть ерофеевскую партию. Ему нужен обратный перевод, разбирающий текст на составные части. Об этом свидетельствуют комментарии, смехотворно дотошные для русского читателя, но необходимые иноземцу.
Паунд надеялся, что мировая культура прозвучит в его поэме одним аккордом. Обращенная к интуитивному, а не абстрактному восприятию, поэма, мечтал он, будет доступна каждому. Паунд рассчитывал, что его поймут все, – его поняли немногие. Разница сокрушительна, ибо она отменяет главное – идею эпоса.
В “Пизанских сantos”, подводя итог труду своей жизни, Паунд назвал себя “одиноким муравьем из разрушенного муравейника”. Речь тут не только о лежащей в руинах послевоенной Европе. Муравейник – образ самоотверженной целеустремленности, безусловного взаимопонимания и всеобъемлющей солидарности, ставших инстинктом. Не став муравейником, “Cantos” утратили предназначавшийся им высокий смысл.
Однако культура xx века, как это всегда бывает, распорядилась наследством Паунда не так, как мечал автор. Она взяла у него не цель, а метод. Маршалл Маклюэн, навещавший Паунда в сумасшедшем доме, видел в нем первого поэта всемирной деревни, который пытался создать грибницу человечества, объединив мир сетью своих “Cantos”.
Идея Маклюэна о поэзии Паунда как одном бесконечном предложении предвосхищает те изменения в структуре восприятия и моделях познания, которые вызывает в нашем обществе развитие электронных массмедиа. “Cantos” с их открытой ком позицией и асимметрическим ритмом выводят по этику Паунда за пределы литературы, сближая ее с кинематографом, новой музыкой и другими дионисийскими тенденциями сегодняшней культуры.