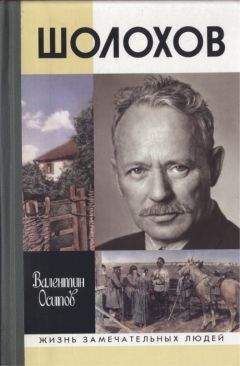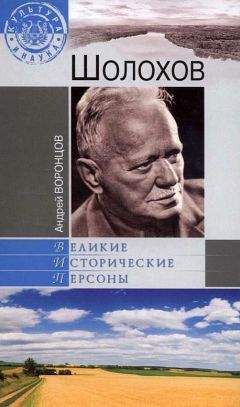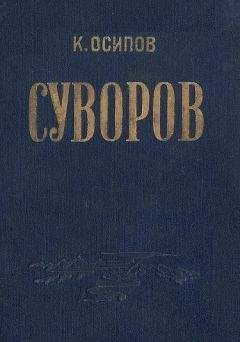«Жухлые надвигались на область дни. Гиблое подходило время». Это вычеркнутые строки о наступлении красных в конце 1918 года.
«Рабочие не имеют отечества, — чеканом рубил Бунчук. — В этих словах Маркса — глубочайшая правда. Нет и не было у нас отечества! Дышите вы патриотизмом. Проклятая земля эта вас вспоила и вскормила, а мы… бурьяном, полынью росли на пустырях…» И это писательское отношение к интернациональным крайностям «мировой революции» было скрыто цензорами.
«Шли люди, искренне хотевшие помочь Корнилову поднять на ноги упавшую в феврале старую Россию». Здесь сразу вспоминается разговор Шолохова со Сталиным о Корнилове.
Исчез из романа даже целый персонаж, пусть вписанный лишь в одну главу второго тома — это «шмара» одного из руководителей Красного Дона, Подтелкова: «Белесая полногрудая девка, которую вез он с собой под видом милосердной сестры».
Обнаружены и другие насилия над авторской волей — в характеристиках Каледина и Листницкого, в раздумьях Штокмана о том, каким быть члену партии.
8 февраля 1940 года. В газете «Известия» появилась заметка: «На днях писатель-орденоносец М. А. Шолохов сдал издательству „Художественная литература“ две последние части (7-ю и 8-ю)… В ближайшие дни четвертая книга сдается в набор… Будет издана в срочном порядке, большим тиражом и выйдет наряду с библиотечной также и в массовой серии. Восьмая часть будет опубликована в одном из выпусков „Роман-газеты“».
Все же не зря издавна сложилась на Руси поговорка: февраль — широкие дороги.
Март. Еще одно доброе событие: «Новый мир» выпускает в свет заключительные части «Тихого Дона».
Нашелся один журналист из «Известий» — поехал в Вешки и задал романисту значительные вопросы, на которые получил преинтереснейшие ответы.
«— План романа, задуманного столько лет назад, менялся?
— Только частности. Приходилось кое в чем себя теснить, убирать из романа лишние эпизодические лица. Побочный эпизод, случайная глава — со всем этим пришлось распроститься.
— Сколько листов „Тихого Дона“ вы опубликовали из написанного? (Имеется в виду авторский лист.)
— Около 90 листов. Всего же мною написано около 100. Материала было так много, что одно время я подумывал о пятой книге романа.
— Что труднее всего давалось вам?
— Больше всего трудностей и неудач было с историко-описательной стороной. Для меня эта область — хроникально-документальная — чужеродная. Фантазию приходилось взнуздывать.
— Вы родились в девятьсот пятом году. Откуда у вас такие знания старого казачьего быта?
— Может быть, это воспоминания детских лет, может, результат беспрерывного общения с казачьей средой. Но главное — вживание в материал».
…Писатель ждет откликов на выход романа. Едва ли существуют в мире творцы, не жаждущие (хотя бы тайно) узнать, как встречено их творение.
Первый отклик появился в «Литературной газете». Он был на удивление благожелателен. Но этим и ограничилось. Расколол читателей прежде всего Мелехов. Над ним тень сталинского приговора — чужд народу!
Тут же подоспел журнал «Литературное обозрение»: «Кончается повесть о Григории — искателе социальной правды и начинается повесть о Григории — искателе личного покоя».
То была сигнальная ракета. И завязались сражения между критиками и литературоведами. Каждому хочется водрузить над романом знамя своей оценки.
Совсем немногие рискнули поддерживать Шолохова. Один из них, Виктор Перцов, писал: «Ничего другого, кроме того, что там написано, не могло случиться с Григорием Мелеховым. Все в его судьбе неотвратимо, как закон физики… Шолохов не поступился правдой, не пошел против своей совести художника…»
Другие, числом многие, пошли побивать автора партдогмами.
«Не только Григорий, но вся его семья достойны лишь уничтожительного конца. Как всякое отсохшее и никому не нужное растение…» Это критик М. Чарный начинает поносить роман — подал голос в «Литературной газете», закончил в «Октябре», где все еще командует Панферов. «Отщепенец… Трагикомический персонаж», — пишет о Мелехове так и не распрощавшийся с рапповщиной В. Ермилов. «В последнем повороте Григория виноват Кошевой, в этом именно пункте сюжета скрыты идейные недостатки романа», — утверждает П. Громов. «Ландскнехт нашего времени… ратоборец казачьей обособленности», — дуплетом выстреливает И. Лежнев (одну из своих статей назвал в стиле новой партфразеологии — «Мелеховщина»). «Стадное поведение… Тугодум… Мысль для него — непосильное бремя…» — обозвал Мелехова критик В. Кирпотин.
За рубежом вдруг отметили — пусть и с пережимом — крамолу. В одном американском журнале удивлялись: «Фигуры сознательных коммунистов: Штокман, Бунчук, Лагутин, Валет — неубедительные, мертворожденные схемы, а не живые люди. Как только Шолохов прикасается к ним, его начинают преследовать неудачи, деревенеет язык, суха и неповоротлива становится обычно гибкая, как лоза, шолоховская фраза…» И пошли обобщения: «Шолохов-коммунист выбивается из сил, а Шолохов-художник саботирует все намерения партийца»; «Он всем своим крестьянским нутром не очень ценит радикализм и революционность людей деклассированных, которым „нечего терять“».
Писатели решили не отставать от теоретиков литературы. В мае, в канун дня рождения Шолохова, в Союзе писателей прошло обсуждение «Тихого Дона». Спорили до ссор. Александр Бек — с критикой, Александр Фадеев — с критикой. С похвалами — Новиков-Прибой, Валентин Катаев, Вячеслав Шишков, Серафимович. «„Тихий Дон“ занимает в советской литературе первое место…» — говорил автор самобытной «Угрюм-реки» Шишков. «Шолохов — огромный писатель… Он силен в первую голову как крупнейший художник-реалист, глубоко правдивый, не боящийся самых острых ситуаций, неожиданных столкновений людей и событий… Огромный, правдивый писатель… И черт знает как талантлив…» — горячо выступал Александр Серафимович. Очевидец запомнил: «Последние слова Серафимович произнес с каким-то даже изумлением».
Шолохов удивлен негаданной удачей — заключительные главы «Тихого Дона» зазвучали по радио. Оценщиков сразу прибавилось. И посыпались отклики. Даже в Америке заметили последствия от чтения по радио. В тамошнем «Социалистическом вестнике» появились интересные заметки некоей Веры Александровой: «Огромное количество восторженных писем. Простые трудовые люди — рабочие, сельские учительницы восхищаются романом и Григорием без всякой оглядки. Одна работница с московской фабрики рассказывает, что она урывала время от своего очень короткого сна, но не пропустила ни одной передачи…». В статье, однако, подмечено и такое: «Но чем дальше вверх по социальной лестнице, тем больше оговорок и оглядок…» Далее пояснение: «Не подлежит сомнению, что, если бы Шолохов следовал официальной критике и дал счастливую „советскую развязку“, он покривил бы душой не только как художник, но и как сын большой народной революции». Вывод: «Широкие круги читателей, в противоположность критикам, благодарны ему именно за эту правду…»