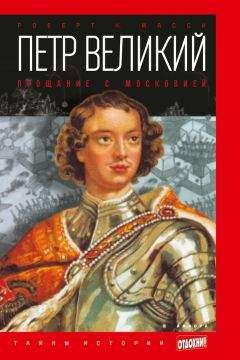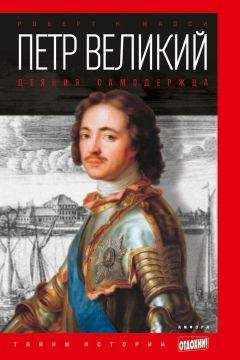Другой западный обычай, который одновременно повышал цивилизованность русского общества и сберегал государству земли и средства, привез сам Петр. По традиции в России за большие заслуги перед государем жаловали поместьями или денежными суммами. На Западе Петр открыл для себя более экономный способ отличать подданных за службу – награждение орденами, крестами и звездами. По примеру таких европейских наград, как английский орден Подвязки и габсбургский орден Золотого Руна, Петр создал особый знак отличия для российского дворянства, орден Святого апостола Андрея Первозванного, в честь святого покровителя России. Кавалеры нового ордена носили широкую голубую ленту через плечо и крест Святого Андрея, черный по белой эмали. Первым удостоился его Федор Головин, верный соратник Петра, один из великих послов, а теперь фактически неофициальный премьер-министр. Царь наградил также казачьего гетмана Мазепу и Бориса Шереметева, сменившего Шейна на посту главнокомандующего. Через двадцать пять лет, когда Петр умер, орден Святого Андрея насчитывал тридцать восемь кавалеров – двадцать четыре русских и четырнадцать иностранцев. Этот орден оставался самой высокой и почетной из всех наград Российской империи вплоть до ее падения. Человек есть человек: свыше двух столетий эти кусочки цветной ленты, серебра и эмали значили для русских генералов, адмиралов, министров и других чиновников никак не меньше, чем тысячи десятин щедрой русской земли.
Бороды были сбриты, первые приветственные чаши за благополучное возвращение царя выпиты, и улыбка стерлась с лица Петра. Теперь ему предстояло заняться куда более мрачным делом: настала пора окончательно рассчитаться со стрельцами.
С тех пор как низвергли Софью, бывшие привилегированные части старомосковского войска подвергались преднамеренным унижениям. В потешных баталиях Петра в Преображенском стрелецкие полки всегда представляли «неприятеля» и были обречены на поражение. Позднее, в настоящих сражениях под стенами Азова, стрельцы понесли тяжелые потери. Их возмущало, что их к тому же заставляют рыть землю на строительстве укреплений, как будто они холопы. Стрельцам невмоготу было подчиняться командам чужестранных офицеров, и они роптали при виде молодого царя, послушно и охотно идущего на поводу у иноземцев, лопочущих на непонятных наречиях.
К несчастью для стрельцов, два Азовских похода убедительно показали Петру, насколько они уступают в дисциплине и боевых качествах его собственным полкам нового строя, и он объявил о намерении реформировать армию по западному образцу. После взятия Азова вместе с царем в Москву для триумфального вступления в столицу и чествования вернулись новые полки, а стрельцов оставили позади – отстраивать укрепления и стоять гарнизоном в покоренном городе. Ничего подобного прежде не случалось, ведь традиционным местопребыванием стрельцов в мирное время была Москва, где они несли караул в Кремле, где жили их жены и семьи и где служивые с выгодой приторговывали на стороне. Сейчас же некоторые из них были оторваны от дома уже почти два года, и это тоже делалось неспроста. Петр и его правительство хотели, чтобы в столице находилось как можно меньше стрельцов, и лучшим способом держать их подальше считали постоянную службу на дальних рубежах. Так, когда вдруг понадобилось усилить русские части на польской границе, власти распорядились направить туда 2000 стрельцов из полков азовского гарнизона. В Азове их собирались заменить стрельцами, оставшимися в Москве, а гвардейские и другие полки нового строя разместить в столице для охраны правительства.
Стрельцы выступили к польской границе, но их недовольство росло. Они были вне себя оттого, что предстояло идти пешком сотни верст из одного глухого сторожевого пункта в другой, а еще сильнее они злились на то, что им не позволили пройти через Москву и повидаться с семьями. По пути некоторые стрельцы дезертировали и объявились в столице, чтобы подать челобитные с жалобой на задержку жалованья и с просьбой оставить их в Москве. Челобитные были отклонены, а стрельцам велели немедленно возвращаться в полки и пригрозили наказанием. Челобитчики присоединились к своим товарищам и рассказали, как их встретили. Они принесли с собой столичные новости и уличные пересуды, большей частью касавшиеся Петра и его длительной отлучки на Запад. Еще и до отъезда царя его тяга к иностранцам и привычка раздавать иноземным офицерам высокие государственные и армейские должности сильно раздражали стрельцов. Новые слухи подлили масла в огонь. К тому же поговаривали, что Петр вконец онемечился, отрекся от православной веры, а может, и умер.
Стрельцы возбужденно обсуждали все это между собой, и их личные обиды вырастали в общее недовольство политикой Петра: отечество и веру губят враги, а царь уже вовсе не царь! Настоящему царю полагалось восседать на троне в Кремле, быть недоступным, являться народу только по великим праздникам, в порфире, усыпанной драгоценными каменьями. А этот верзила целыми ночами орал и пил с плотниками и иностранцами в Немецкой слободе, на торжественных процессиях плелся в хвосте у чужаков, которых понаделал генералами и адмиралами. Нет, не мог он быть настоящим царем! Если он и вправду сын Алексея, в чем многие сомневались, значит, его околдовали, и припадки падучей доказывали, что он – дьявольское отродье. Когда все это перебродило в их сознании, стрельцы поняли, в чем их долг: сбросить этого подмененного, ненастоящего царя и восстановить добрые старые обычаи. Как раз в этот момент из Москвы прибыл новый указ: полкам рассредоточиться по мелким гарнизонам от Москвы до польско-литовской границы, а дезертиров, недавно являвшихся в столицу, арестовать и сослать. Этот указ стал последней каплей. Две тысячи стрельцов постановили идти на Москву. 9 июня, после обеда, в австрийском посольстве в Москве Корб, вновь назначенный секретарь посольства, записал: «Сегодня впервые разнеслась смутная молва о мятеже стрельцов и возбудила всеобщий ужас». На памяти еще был бунт шестнадцатилетней давности, и теперь, боясь повторения бойни, все, кто мог, спасались из столицы.
В наступившей панике правительство, оставленное царем, собралось, чтобы договориться, как противостоять опасности. Никто не знал, много ли бунтовщиков и далеко ли они от города. Московскими полками командовал боярин Алексей Шейн, а плечом к плечу с ним, как и под Азовом, стоял старый шотландец, генерал Патрик Гордон. Шейн согласился принять на себя ответственность за подавление бунта, но потребовал от членов Боярской думы единодушного письменного одобрения своих действий, заверенного их собственноручными подписями или приложением печатей. Бояре отказались – вероятно, опасаясь, что в случае победы стрельцов эти подписи станут их смертным приговором. Тем не менее они единодушно постановили преградить стрельцам доступ в Москву, чтобы восстание не разгорелось сильнее. Решили собрать все сохранившие верность войска, какие удастся, и направить навстречу стрельцам, пока они не подошли к городу.