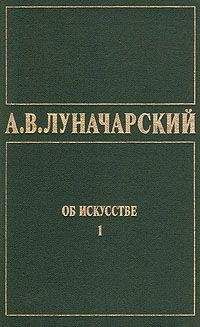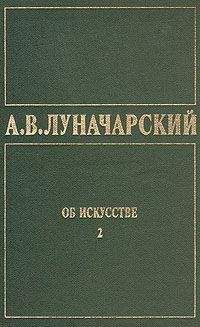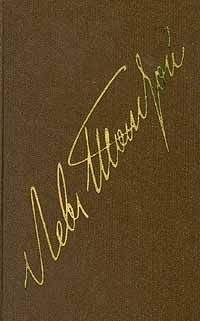Жолткевич
На днях ко мне обратилась за помощью, можно сказать как утопающая, одна, совсем молодая художница, учившаяся до сих пор в Мюнхене, превосходно овладевшая рисунком, даровитая. Ее мюнхенские профессора сами ей посоветовали ехать для усовершенствования и для ознакомления с живописью в Париж. Но бедняжка здесь совсем растерялась. Безбрежное море ультрамодерна, в котором как щепки ныряют отдельные хорошие произведения и шумят все мутные водовороты новейших мод, закружило ей голову. Молодые русские художники, которых она встречает, подымают ее на смех за то, что у нее четкий и сильный рисунок, что она великолепно схватывает сходство. По их мнению, все это недостойно художника: надо стилизовать! И бедняжка чуть не со слезами поверила мне одну свою догадку: «Мне все кажется, — сказала она, — что они стилизуют потому, что вовсе не умеют рисовать. Я, по крайней мере, никак не могу добиться, чтобы они хотя для примера нарисовали мне что–нибудь порядочное — сейчас же начинают стилизовать и выходит ерунда». Но если здравый смысл наталкивает ее на эту догадку, то самоуверенный крик и шум, раздающиеся со всех сторон, прямо–таки мучат ее.
Конечно, осмотревшись в Париже, она найдет здесь те молодые силы, которые умеют идти вперед, понимают, как важно отходить от непосредственного изображения видимости объекта, но в то же время не подменяют живописи простым фокусничанием, лишенным всякого «ремесла».
Такие есть. Сегодня, например, по дороге к скульптору Жолткевичу я зашел в маленькую мастерскую совсем молодого художника Цукермана. Он кончил рисовальную школу в Вильно и уже года три работает в Париже. Однако хотя он и живет в «La Ruche», в месте наиболее сильного прибоя наиболее безумных парадоксов, — это нисколько не лишило его ни индивидуальности, ни чутья красоты.
Конечно, молодой Цукерман еще не нашел себя, есть колебания, есть неопределенность в его пейзажах; но постепенно вырабатывается художник, искренно и поэтически видящий природу. А что особенно хорошо, так это то, что Цукерман рисует: рисует много, с жаром и честно.
Жолткевич принадлежит к числу русских полусамоучек (ведь и Аронсон был таким), но принадлежит также к числу людей, не позволяющих сильному течению модернизма сбить себя) с ног. А терпкая и острая атмосфера художественного Парижа очень полезна для тех, кто умеет все–таки сохранить свой вкус здравым и независимым.
Когда вы входите в мастерскую Жолткевича, то впечатление суровой строгости, сдержанного фанатизма, которое бросается в глаза в его произведениях на разных выставках, овладевает вамп с большой интенсивностью.
Эта скорбная, словно бы закусив губу и напрягая мускулы сдерживающая себя суррвость есть, конечно, дитя всей жизни молодого художника. Едва окончив гимназию, Жолткевич попал в тяжелую пятилетнюю ссылку в Восточную Сибирь. Оттуда он явился в Париж без гроша денег, с надорванным здоровьем и опечаленной душой.
Он начинает лепить как любитель, и первые же его вещи обращают внимание всех, кому он их случайно показывает. Сам удивленный открывшимся в нем талантом, Жолткевич начинает учиться. Вскоре он попадает в мастерскую Бурделя, которому больше всего обязан. Бурдель научил его строгому отношению к искусству и исканию архитектуры в пластике. Но сильная индивидуальность Жолткевича скоро резко разошлась с властными тенденциями учителя. Пришлось разойтись и фактически. С тех пор Жолткевич работает самостоятельно и выставляет в Салонах.
Быть может, наибольше страданий доставляет ему то, что приходится работать совсем без модели. Однако это мало сказывается в его произведениях, настолько оригинальных и ярких, что, надо ожидать, интересующиеся искусством люди скоро протянут руку этому сильному артисту, все еще борющемуся с нуждою.
Строгость, повторяю, есть первое впечатление от работ Жолткевича. Быть может, это и толкнуло его одно время в сторону умеренного кубизма. Он удачно, однако, переводит кривые плоскости на грани, и, например, в бюсте Махайского [26] от этой угловатости и сухости значительно увеличивается впечатление психологической прямолинейности натуры. К тому же времени, что и этот бюст, относится небольшая статуя, так и названная «Архитектурный мотив»: она несомненно свидетельствует об умении найти какую–то средину между чисто архитектурным, рациональным, линейно–логическим и живым во всей его неуловимой гибкости.
Среди строгих форм и лиц, доминирующих в мастерской, бросается в глаза большой автопортрет. Голова, почти пугающая своей замкнутой мрачностью. Это, скорее, полное тяжелого раздумья самоуглубление, чем подлинный автопортрет.
И рядом — великолепная голова Герцена.
Может быть, это не Герцен. Герцен шире, изменчивее, эклектичнее, роскошнее; здесь же — какой–то святой, человек мучительного напряжения мысли и совести, учитель морали и подвига. Взятый с этой стороны, образ монументален и чрезвычайно значителен.
Есть плоды совсем уже траурных мечтаний. Часы, например, по сторонам которых две пригнутые судьбою фигуры, а наверху полуисклеванная мертвая голова с терзающим се коршуном. Сильное впечатление производит фигура мальчика, с отчаянием карабкающегося на какую–то стену. Или вот — «Следя за звездами»: странная фигура девушки; она застыла, сидя в безнадежно–печальной позе, схватив руками пальцы ног и подняв почти ужаснувшиеся глаза к безднам неба. Так же печальна «Усталость», но в этой фигуре уже нет строгости архитектурной, есть уже нечто более гибкое, женственное, постепенно проглядывающее сквозь суровую стилизацию.
Хорошо рисует переход от архитектурных замыслов к грезе (к которой, очевидно, сильно стремится художник, — она, быть может, развернулась бы в полную радости мраморную песню, если бы счастье ему улыбалось) мраморная композиция «Волна», выставленная в прошлом году в Салоне Независимых и обратившая на себя внимание многих. Внизу волна идет тяжело, и в ее глубине художнику рисуются как бы какой–то мрачно–тоскующий полулик и две напряженные руки, сцепляющиеся в судорожном объятии. А верх волны, всплеснувшийся и обратный, — прелестная девушка, взметнувшая руки на голову, бегущая от глубины, в которую фатально должна вновь обрушиться. Все формы, как всегда у Жолткевича, строги, но они не так четки здесь и окутаны влажным покровом.
Жолткевичу в сильной степени свойственна литературность. На некоторых его статуях написаны недурные стихи, принадлежащие, вероятно, ему же. В отличие от большинства современников я литературность отнюдь не считаю за недостаток в художнике. Ни один из истинно крупных скульпторов, даже в последние десятилетия, не ограничивался созданием простых форм без психологического и символического содержания: ни Роден, ни Бурдель, ни Жозеф Бернар.
Мою догадку о том, что Жолткевич — этот строгий, кованый пластик, словно каким–то холодом леденящий свои формы, — полон мечты и желания тепла и грации, подтверждает судьба одной из замечательнейших его композиций, к стыду жюри Салона des beaux Arts, не принятой и замененной на выставке женской головой, правда, мастерски сделанной, но ни о чем особенно не говорящей.
Композиция эта росла медленно.
Сначала перед вами угловатая, страшная своей изможденностью и изморенностью ведьма. Согнутая в лук, она подымает костлявое лицо к небу и бормочет какую–то молитву, полную упреков. Слова этой молитвы написаны на пьедестале; она кончается выражением презрения к людям:
«А их–то, их сердца
Поймут ли муки моего несовершенства
Иль радость чистую творца?» ,,
Уже в этой фигуре сказалась, таким образом, двойственность. Муки несовершенства терзают, но в них есть и проблеск высшей творческой радости. И вот постепенно, как антитеза этой ведьмы или как горение ее мечты о красоте, возникает в мраморе гордая, стройная девушка с возвышенным и прекрасным загадочным лицом.