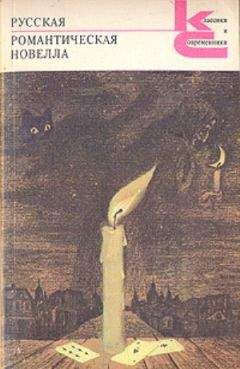27 У трактира. 1865. Кат. № 127
Отдельные персонажи картины как бы сошли со страниц повести Г. И. Успенского “Нравы Растеряевой улицы” (1866). Это и дородный кабатчик, и “несчастные птицы понедельника”, как называет Успенский мужиков, торопящихся опохмелиться после “бурно” проведенного воскресенья. Особенно выразительны фигуры первого плана: баба, стыдящая супруга, который свалился с ног и уже не в силах подняться, самозабвенно отплясывающие дьячок, мужик в разодранной рубахе и пьяная старуха. На варианте 1881 года отчетливо заметен наиболее трагичный персонаж во всей картине: слева у полуразвалившегося забора к бутылке прикладывается мальчишка, еще совсем ребенок. Подобный персонаж есть и в упомянутой повести Успенского:
28 “Деревня стареет кабак новеет”. Литография А. А. Иконникова. 1873
Мальчонка по тринадцатому году, и горя-то настоящего не видал, а ведь норовит тем же следом в кабак 13*.
О типичности ситуации, описанной как художником, так и писателем, свидетельствует и такой своеобразный документ эпохи, как “Очерки по истории кабачества”, написанные И. Г. Прыжо-вым в середине 1860-х годов:
Число городских пьяных увеличивается неимоверно. У них явился даже новый праздник — “Понедельник”. По понедельникам, как и по воскресеньям, все кабаки набиты битком. Число кабацких пьяниц определяется лучше всего числом кабаков. Кабаков в Москве в 1847 году было 206, в 1862 — 218, […] а в 1863 — кабаков — 919 […] Великое благодеяние для людей, которые, по их словам, “хлебают сиротские слезы, завивают горе ремешком!” 14*.
Другая цитата — из очерка с характерным названием “Быт русского народа”:
Пить дело не мудреное, — ты это видишь на сорока миллионах русского народа. Но вот что мудрено: среди этого всеобщего браж-ничанья, среди этого отчаянного запоя сохранить трезвый смысл, оглядеться кругом и найтись […] — вот что мудрено! 15*.
В картинах Соломаткина нет трагического пафоса документальных свидетельств Прыжова, но, наверное, только он, человек глубоко переживающий и сочувствующий, мог увидеть и изобразить своих убогих героев так убедительно и остро.
“Кабацкая” тема, кажется, прочно срослась с именем Соломаткина и, по общепринятому мнению, наиболее полно характеризует его творчество. Это не совсем так. Сцены “питейные” вполне органично совмещаются у него с циклом произведений, посвященных лицедеям балагана. Пользуясь словами А. А. Федорова-Давыдова, в соломаткинской
трактовке бродячих актеров было, несомненно, немало и автобиографического, горькой иронии гибнущего в борьбе с жизнью таланта, чувств человека, который сам не имел ни кола ни двора и был завсегдатаем трактиров 16*.
И разве удивительно, что именно Соломаткину принадлежит такое бесконечно лиричное произведение, как “По канату. Канатоходка” (1866, Музей личных коллекций), где стройная девушка с балансиром в руках в буквальном и переносном смысле “парит” над толпой, осторожно скользя по натянутому канату.
29 По канату. 1866. Кат. № 14
Создание картины, несомненно, навеяно конкретными впечатлениями — представления такого рода были нередки во время народных гуляний. Но в данном случае художник отрывается от конкретности. Светлый силуэт девушки в воздушном платье четко выделяется на фоне темной листвы деревьев. (Какими же громадными должны быть эти деревья, если лица зрителей, смотрящих снизу на канатоходку, кажутся точками размером с булавочную головку!) Сочетание двух точек зрения: в упор на девушку и деревья позади нее и сверху вниз на расстилающуюся поляну, — вызывает неожиданные смещения композиции, побуждающие зрителя воспринимать центральный образ в надбы-товом плане. Так, протяженность каната, пересекающего громадную, вмещающую значительное количество народа поляну, при ближайшем рассмотрении оказывается нереально велика, натянут же он на высоте, на какой вряд ли позволяли себе выступать уличные актеры. Думать, что Соломаткин не справился с перспективой — нелепо: многие его работы показывают, что этим искусством он свободно владел. Образ канатоходки для него — не что иное, как поэтическая метафора, возникшая в точке пересечения действительности и мечты, жизненной прозы и идеала, идеала, который, по словам Ф. М. Достоевского, — “тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность” 17*. И какими бы далекими и случайными ни показались наши ассоциации, но не на том ли самом скрещении реального и идеального будут построены “Актриса Маргарита” у Н. Пиросмани, “Девочка на шаре” у П. Пикассо?..
В рамки бытовой картины 1860-х годов не укладываются и соломаткинские “Актеры на привале” (1869, ГРМ). В театральном треножнике полыхает огонь, освещая бродячую труппу, что остановилась на ночлег на окраине села. Идет репетиция. Эффектно откинул руку декламирующий актер, ему внимают девушка и пожилая женщина, все они одеты в театральные костюмы. Рядом — наскоро накрытый стол: вскипел самовар, расставлены чашки; один из членов труппы, не занятый в сцене, с интересом следит за ходом репетиции; на земле перед чтецами брошены книги, на одной из них можно прочитать название — “Горе от ума”. Подобное сочетание возвышенного с прозаическим особенно часто встречается в жизни людей, связанных с театральными подмостками. Нетрудно заметить скрытую иронию автора в противопоставлении пылающего треножника и закипающего самовара, эффектных поз и потертых платьев, волшебной романтической ночи и названия репетируемой пьесы (в данном случае название воспринимается отдельно от ее содержания). И все же поэтическое настроение преобладает в картине. Во многом — благодаря сочетанию ночного пейзажа и света костра, романтически приподнимающему сюжет.
30 Актеры на привале. 1869. Кат. № 31
31 Репетиция в сарае. 1867. Кат. № 23
Гораздо более прозаично, в традиционном “жанровом” ключе решена близкая по сюжету, но совсем иная по характеру сцена — “Репетиция в сарае” (1867, ГТГ). Название не совсем точно. Трудно считать сараем то вместительное каменное строение с толстыми стенами и арочными сводами, в котором разворачивается действие. По-видимому, именно эта картина упоминается в отчете комитета Общества поощрения художеств за 1868 год под названием “Детский театр”, и именно это название, по-видимому, нужно считать оригинальным 18*. Романтика здесь полностью отсутствует, описание предельно конкретно и по-бытовому обстоятельно, так что напрашивается сравнение с документальным очерком Е. П. Гребенки “Петербургская сторона”, в котором описывается создание подобного любительского театра:
Для этого очистили обширный мучной амбар, возвысили сцену, сделали углубление для оркестра, из дешевых обоев сделали декорации, занавес был из белого холста, подымался и опускался, как стора […] В театре были поставлены простые белые длинные скамьи из досок […] театр всегда был полон, громкие рукоплескания и “браво” явно говорили за удовольствие зрителей 19*.
У Соломаткина все значительно проще: нет ни оркестровой ямы, ни занавеса, ни декораций. Под потолком сушатся чьи-то чулки и платья, в углу свалены поленья, на полулежит рогожа. А восторг зрителей и радость исполнителей обоюдны, каждое действующее лицо (как это и вообще свойственно героям Соломаткина) с самозабвением погружено в происходящее. Совпадение же литературного и живописного рассказа в очередной раз подтверждает тот факт, что художник черпал свои сюжеты из окружающей жизни, и хотя зарисовок, свидетельствующих о работе с натуры, не сохранилось, реальные прообразы героев несомненно существовали, а прекрасная зрительная память Соломаткина помогала ему сберегать и использовать в творчестве яркие сцены, случайно подсмотренные в натуре.
Подобная “литературность” живописного произведения была присуща не только Соломаткину, но и многим другим худож-никам-шестидесятникам. Так, анализируя картину Юшанова “Проводы начальника”, естественно вспомнить героев “Губерн-ских очерков” Салтыкова-Щедрина и даже сослаться на конкретную главу “Неприятное посещение”, по отношению к которой картина выглядит почти иллюстрацией. “Шутники” Прянишникова непосредственно навеяны впечатлениями от постановки одноименной пьесы А. Н. Островского на сцене Малого театра, а сюжет одной из лучших картин Неврева — его “Воспитанницы” — связан с одноименной пьесой того же Островского, поставленной в том же театре. И эти примеры не единичны. Глядя на картины шестидесятников, посвященные жизни чиновничества, хочется процитировать Гоголя, раннего Островского, Салтыкова-Щедрина; там, где действие разворачивается на городских окраинах, речь идет об их быте и нравах, на память приходят “физиологические” очерки, рассказы Левитова, Г. Успенского. Использование в живописи 1860-х годов приемов и образов, близких художественной литературе того времени, весьма характерно. Ранние полотна Перова, так же, как, впрочем, и его жанровые произведения 1870-х годов, в этом плане от полотен Соломаткина, других современников отличаются мало. Сюжет в них сведен к передаче конкретного момента, легко поддается пересказу и основан главным образом на внешнем действии. В тех случаях, когда акцент переносится на внутреннее состояние героев, параллели следует искать уже не в прозе, а, скорее, в поэзии или же в литературе, основанной на психологическом осмыслении человеческих поступков, каковой была, к примеру, проза Достоевского. Здесь можно вспомнить такие картины Перова второй половины 1860-х годов, как “Проводы покойника” и, особенно, “Последний кабак у заставы”. Подобную эволюцию “от рассказа к показу” можно проследить и в творчестве Соломаткина. Его лучшие полотна, написанные на рубеже 1860~1870-х годов (“Невеста”, 1867; “Свадьба”, 1872; “Ряженые”, 1873), — это уже не просто живые сценки с натуры: непосредственные впечатления здесь глубоко осмыслены и основательно переработаны.