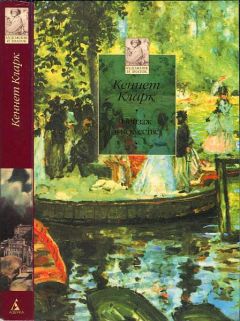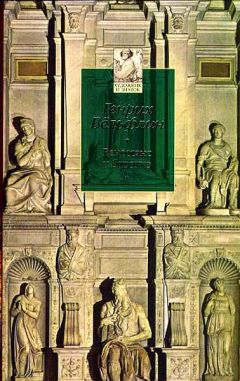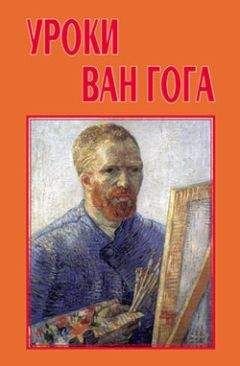К концу XVII века живопись света перестала быть проявлением любви и превратилась в обычный прием. Camera lucida уже не вызывала изумления — она стала привычной спутницей художника. Ощущение важности природы в повседневной жизни, придававшее такую ценность точным изображениям природных явлений, исчезло. В это своеобразное бабье лето гуманизма человек был так доволен своими собственными деяниями, что не желал смотреть на что-либо другое. Среди его недавних созданий была механическая Вселенная, но и та из волнующего открытия уже успела превратиться в простую банальность. Природа, по словам Карлейля, сделалась старыми часами с восьмидневным заводом, и часы эти можно было с легкостью разобрать и вновь собрать по своему вкусу. Неудивительно, что пейзажная живопись превратилась в изготовление картин по известным формулам, и изображение реальности было низведено до обыкновенной топографии.
Но если топограф оказывался художником, что случалось не так уж часто, то он не мог подавить в себе интерес к красоте атмосферы, и пейзаж реальности вновь поднимался до уровня искусства. Так новизна зрительных впечатлений побудила Каналетто выйти за пределы его обычного стиля. «Двор каменотеса» был написан потому, что этот вид нашел отклик в душе художника, а не потому, что он хотел продать его какому-нибудь английскому путешественнику; в первых видах Темзы выражено восхищение новым, непривычным характером освещения. Затем, по мере того как на него сыпалось все больше заказов, воздушность стала исчезать и из его картин, и в конце концов он опустился до уровня прилежного топографа, наделенного необычайным даром расположения больших участков света и тени. Его соперник, Франческо Гварди, обладал быстротой глаза истинного импрессиониста. Он улавливал мельчайшие оттенки тона паруса на фоне неба, самый трепетный отсвет, брошенный водой канала на поблекшую штукатурку венецианского дворца. Как говорят певцы, он всегда в полутоме. Но в композиции он явно тяготел к приемам рококо, а в рисунке — к блестящему каллиграфическому стилю, который при всем своем очаровании относится к области ремесла.
Для того чтобы понять невозможность натуралистической живописи в XVIII веке, достаточно обратиться к творчеству Гейнсборо. В самом начале карьеры радость от увиденного вдохновляла его на создание в картинах отмеченных тонкой наблюдательностью фонов, например хлебное поле, куда он поместил мистера и миссис Эндрюс (ил. 44). Это очаровательное произведение написано с такой любовью и мастерством, что следовало бы ожидать движения Гейнсборо в том же направлении, но он отказался от живописи с натуры и занялся изготовлением картин и нежном стиле, чем и прославился. Биографы Гейнсборо пришли к выводу, что писание заказных портретов не оставляло ему времени на этюды с натуры, и в подтверждение того, что Гейнсборо, имей он возможность, был бы натуралистическим пейзажистом, цитировали его знаменитое письмо, в котором говорится, что «его тошнит от портретов, и ему хочется взять виолу-да-гамба и пешком отправиться в какую-нибудь прелестную деревушку, где можно заняться пейзажами». Однако письмо о виоле-да-гамба — не более чем проявление руссоизма Гейнсборо. Его истинное мнение на сей счет выражено в письме к одному из его покровителей, который оказался настолько простодушен, что обратился к художнику с просьбой изобразить на холсте его парк. «М-р Гейнсборо выражает нижайшее почтение лорду Хардвику и почтет за честь выполнить любое поручение его светлости; что же до подлинных видов с натуры, то он берет на себя смелость заметить, что не видел в этой стране ни одного места, которое давало бы тему достойную самых жалких подражаний Дюге или Лоррену. Он полагает, что Пол Сэндби — единственный гениальный человек, посвятивший свой карандаш сему предмету Мистер Г. надеется, что лорд Хардвик не поймет его превратно, но если его светлость желает иметь нечто сносное, подписанное именем Г., то тема, равно как и фигуры, долженствует быть плодом воображения последнего; в противном случае лорд Хардвик заплатит за поощрение художника в отказе от избранного им самим пути, и посему его светлости следовало бы приобрести картину одного из добрых старых мастеров».
44. Томас Гейнсборо. Портрет четы Эндрюс. 1750-е,Несколько лет спустя Фюзели, хранитель Королевской Академии, чьи лекции были образцом самого просвещенного преподавания того времени, упоминает «последним из разряда неинтересных тем тот вид пейзажа, который является лишь бесстрастным изображением конкретного места». Это высказывание следует зачислить в категорию «последних слов», ведь когда они произносились, Констебл уже был учеником Академии, а Вордсворт уже опубликовал свои «Лирические баллады». Взаимоотношения человека с природой уступали в стадию большей близости, для которой любовь Беллини ко всему сущему стала новой религией — искренней, догматичной, нравственной.
Уже в XV веке художники почувствовали, что пейзаж становится слишком банальным и привычным, и занялись исследованием таинственного и дикого. Художники эти происходили из городской среды и работали для городского населения, к тому времени уже давно научившегося усмирять силы природы. Поэтому они могли взирать на опасности, таящиеся в лесах и разливах вод, с некоторой отрешенностью. Они могли сознательно использовать их с целью пробудить в зрителях ужас, приятно щекочущий нервы. В этом смысле их вполне справедливо называют романтиками. Но было бы ошибкой полагать, что они ничем не отличались от авторов готических романов или от людей 1830-х годов. Гораций Уолпол писал в Твикенхеме, где ничто не угрожало его покою и безопасности; для Грюневальда, Альтдорфера и Босха жизненные опасности все еще были реальностью. Они видели деревни, сожженные наемниками, на себе испытали варварскую жестокость Крестьянской войны и последовавших за ней религиозных войн. Они знали, что разум человеческий темен, полон заблуждений, неистов, и лик природы, запечатленный в их картинах, выражал метания духа, как до них фоны Пьеро делла Франческа выражали ясность и чистоту интеллекта. И несомненно, поступая так, они сознательно употребляли определенные формы и символы, вызывающие ужас и смятение.
Они были тем, что сейчас мы называем «экспрессионистами», — термин далеко не столь пустой, как кажется, ведь символика экспрессионизма удивительно последовательна, и в работах пейзажистов начала XVI века мы обнаруживаем не только тот же дух, но те же формы и иконографические мотивы, которые вновь возвращаются в произведениях таких экспрессионистов недавнего прошлого, как Ван Гог и Макс Эрнст, Грэм Сазерленд и Уолт Дисней. В основе своей экспрессионизм — северная и антиклассическая форма; он продолжает (как в образной системе, так и в усложненных ритмах) беспокойное, органическое искусство периода великого переселения народов. Экспрессионизм родился в лесу, и, даже когда ели и подлесок не являются непосредственным предметом изображения — что почти всегда бывает в немецкой живописи, — их сучковатые, ветвистые формы доминируют в рисунке. Последний символ навязчивых древне-германских страхов, укрощенный и одомашненный веком материализма, — это рождественская елка. Первый или один из первых мы находим в отрывке из «Беовульфа», где описывается болото Гренделя; этот фрагмент стоит привести здесь, ибо он включает в себя почти все элементы, из которых состоит пейзаж фантазии.
…И где их жилище —
люди не знают;
по волчьим скалам,
по обветренным кручам,
в тумане болотном
их путь неведом,
и там, где стремнина
гремит б утесах,
поток подземный,
и там, где, излившись,
он топь образует
на низких землях,
сплетает корни
заиндевелая
темная чаща
над теми трясинами,
где по ночам
объявляется чудо —
огни болотные,
и даже мудрому
тот путь заказан[18].
Два художника, выразившие такое отношение к природе в наиболее чистой форме, вышли из лесов, подступавших к берегам Рейна и Дуная. Их имена Грюневальд и Альтдорфер. Из них двоих Грюневальд более велик, более тревожен, и его Изенгеймский алтарь, возможно, самая феноменальная из всех когда-либо написанных картин. О жизни Грюневальда нам почти ничего не известно, как и о жизни Брейгеля и Сегерса. Но по его работам видно, сколь сильное влияние на него оказали мистические сочинения того времени и формы протестантизма, предшествовавшие и сопутствовавшие лютеровской реформации. Как и в протестантском искусстве в целом, в картинах Грюневальда все рассчитано на самое сильное и непосредственное эмоциональное воздействие.