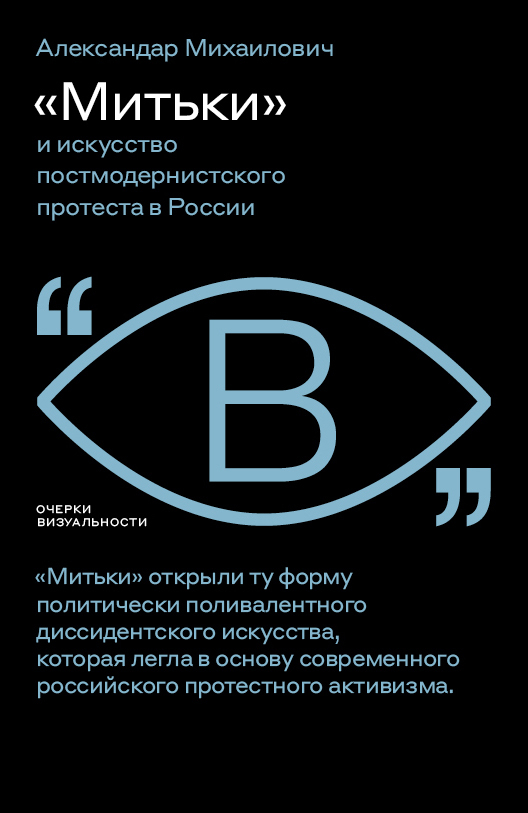им секретов группы и их истолкование ее участниками рождают по меньшей мере тщеславное убеждение в собственной способности поколебать власть когнитивной элиты. Утверждая, что «митьки <…> никого не хотят победить… Они всегда будут в говнище, в проигрыше…
(шепотом) И этим они завоюют мир» [58], Шагин — и как персонаж шинкаревского творчества, и как собственная литературная маска — подчеркивает этот парадоксальный прозелитизм.
Выпустив «Конец митьков», Шинкарев окончательно возвестил о роспуске движения. Однако за этим заявлением крылось другое, вполне конкретное намерение: Шинкарев хотел отмежеваться от творчества Дмитрия Шагина, чрезвычайно преуспевшего в деле саморекламы и все увереннее притязавшего на роль единоличного основоположника движения. «Раздельное» сотрудничество Шинкарева и Шагина и сама неслиянная, будто вода и масло, природа их отношений хорошо видны уже из документов, относящихся к начальному этапу существования «Митьков» и как арт-группы, и как молодежного движения. Конечно, борьба двух художников за право публично представлять «митьковский бренд» созвучна игровому конфронтационному отношению группы к большому миру. Пожалуй, самый важный аспект этого спора — та роль катализатора, которую «Митьки» (1984–1985) Шинкарева сыграли в образовании и движения, и художественного круга. Искусствовед Любовь Гуревич убедительно показала романные достоинства шинкаревского текста. Одно дело не соглашаться с публичными утверждениями человека, послужившего прототипом персонажа вашего произведения, и совсем другое — пытаться вычеркнуть эти высказывания из истории движения, особенно учитывая то обстоятельство, что для упомянутого движения текст этот выступил очевидным vade mecum. Такой быстро обретающий аудиторию текст, как «Митьки», нельзя отменить или эффективным образом переделать: он уже успел запечатлеться в умах читателей. Один из возможных способов внести хотя бы некоторые изменения в ставшее популярным произведение, позволяющий по-новому расставить акценты между персонажами и деталями повествования и, соответственно, представить их в более критическом свете, использовал в «Дон Кихоте» Сервантес: нужно добавить нечто таким образом, чтобы противоречивая фигура протагониста оказалась помещена в метанарративную перспективу. Именно так и поступил Шинкарев, выпустив «Конец митьков»: это продолжение и завершение романа, написанного четвертью века ранее. Но если это так, возникает вопрос: где именно проходит главный нерв романного сюжета?
Ответ на этот вопрос будет дан на более позднем этапе нашего обсуждения. Сама по себе первая книга Шинкарева о «Митьках» во многом напоминает неоконченное произведение. Однако уже из нее явствует, что автор понимает «Митьков» как непрерывно развивающийся, а быть может, и совершенствующийся проект. С учетом всех многочисленных приложений первая книга создавалась на протяжении тринадцати лет, с 1984 по 1997 год, в двух разных странах. Подобно многим сооснователям молодежных объединений, будь то движение или музыкальная группа, в «Конце митьков» Шинкарев выражает обеспокоенность идеологической кооптацией и коммерциализацией. С ретроспективной точки зрения Шинкарева, появление «Митьков» в их изначальном виде позволяет нам датировать первые шаги постмодернизма в России по меньшей мере семью годами ранее распада Советского Союза. В сущности, взгляд Дмитрия Шагина на «Митьков» как на продаваемый «бренд» или ярлык подрывает предшествующую творческую практику движения, которая предполагала трансформацию идеологических артефактов, таких как сталинский культ личности, в театрализованные абсурдистские представления [59]. В этом и других местах новой книги Шинкарев вводит принципиальную и несколько неожиданную оппозицию между коммодификацией (во всех ее формах и на разных этапах развития) и самим постмодернизмом. В присущей ему своеобразной иронической манере художник рассматривает постмодернизм как помеху и для товарного фетишизма, и для культа потребления. Разве вы не видите, вопрошает он, что это мертвые, производимые ad infinitum отходы эксплуатируемого труда, а вовсе не волшебный залог целостности расколотого «я»? Повторно воспроизводимый объект утрачивает свою магию и статус вожделенного товара. Постмодернистский проект указывает на возможность демократизации, при которой статус и ценность личности уже не измеряются собственностью.
Шинкарев пишет в «Конце митьков», что «живопись митьков состоит из повторов»; нередко «даже на выставке висят оригинал и несколько повторов» [60]. По словам автора, тем самым художники стремились установить контакт с публикой, желающей увидеть конкретную картину, однако не умеющей отличить авторский вариант от заветного оригинала. Подобные легкие вариации придают серии повторов «тонкий ритм». И хотя «перекопии» создаются не ради самого этого ритма, они позволяют приобщиться к опыту повторения в том смысле, в каком его понимает Жиль Делез, для которого «неустанно повторять — значит использовать упущенные шансы» [61]. Можно добавить, что Шинкарев предлагает здесь оригинальный синтез двух разных концепций постмодернизма, которые, согласно распространенному представлению, друг другу противоречат. Шинкарев показывает, что теория постмодернизма и сама представляет собой пастиш и, следовательно, является не более истинной и реальной, чем артефакты, которые она подвергает децентрации и тривиализации. Читая «Конец митьков», мы наблюдаем «неуклюжее», спонтанное сближение идей в контексте публичной сферы; видим, как выдвинутая Делезом и Гваттари модель культуры как децентрированной ризоматической сети превращается в генератор бодрийяровских симулякров, который, в свою очередь, преобразуется в источник катализаторов лиотаровской эйфории, вызванной ниспровержением господствующих эпистемологий. Шагин в этой новой книге предстает неким демоническим хип-хоп-артистом, «микширующим» заимствованные из чужих произведений «семплы» в постмодернистском ключе, однако без характерных для постмодернизма продуктивной иронии и здоровой насмешливости [62]. В первой части «Митьков», созданной в 1984 году, Шинкарев описывает Шагина в пародийно-эпическом шутливом тоне: «как и всякий правофланговый активист массового молодежного движения, Дмитрий Шагин терпит конфликт с обществом» [63]. Иными словами, Шагин предстает лишь одним из многих деятелей движения, отошедшего от главного нарратива страны, где родились и выросли его участники. Словно желая уверить читателя, что движение отнюдь не определяется, выражаясь словами Жана Бодрийяра, «дефинитивным кодом, ничтожными терминалами которого являемся мы», в следующей части (1985) Шинкарев пишет: «движение митьков вовсе не предполагает обезлички и унификации выразительных средств: будучи митьком, ты вовсе не должен мимикрировать к Дмитрию Шагину» [64]. А в «Конце митьков» более явно выражен бодрийяровский «неразборчивый террор контроля, террор дефинитивного кода», при котором полное отсутствие сдерживающих факторов приводит к ситуации, когда «мы» уже «не играем, а упромысливаем движение митьков» [65]. Во многом перекликаясь с деятельностью французских ситуационистов, творчество «Митьков» в идеале предполагает форму игры, направляемой определенными руководящими принципами, которые призваны подчеркивать перформативные и художественные аспекты бунта; такая «игра» носит ритуализованный характер и выражает здоровый скепсис относительно истинных возможностей спонтанного действия в условиях бодрийяровского «трансфинитного мира симуляции» [66]. Помимо чрезвычайного эклектизма в выборе источников (среди которых, в частности, постструктурализм, буддистские священные тексты, американская и российская популярная культура), обе книги Шинкарева — «Митьки» и «Конец митьков» — объединяет страх перед искушением антидемократическими импульсами, возникающими внутри массовых движений.
Для Шинкарева, как будет показано, драма распада чистых «митьковских» идеалов