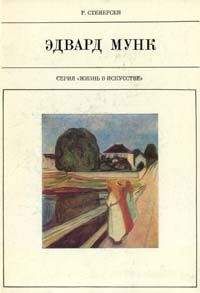Он попросил меня написать туда и узнать, кто покупатель. Оказалось, что это норвежский торговец, живущий в Лондоне. Мунк, надеявшийся, что покупатель — англичанин, был так разочарован, что хотел сразу же закрыть выставку. В Лондоне требовали, чтобы она была открыта в течение положенного срока. Тогда Мунк написал норвежскому консулу в Лондон и просил его помочь отправить картины в Норвегию. Цена на «Больную девочку» поднялась до двух тысяч фунтов, но Мунк не хотел продавать. Выставку надо закрыть и картины отправить в Норвегию. Организаторы выставки обратились ко мне, прося уладить это дело. Я написал:
«Мунк в несколько подавленном настроении. Продолжайте выставку до положенного срока. Я попытаюсь уговорить его согласиться на это».
Узнав, что я это написал, Мунк пришел ко мне и сказал:
— Ну это уж слишком. Какое вы имеете отношение к моим картинам? Теперь каждый из нас будет заниматься своим делом — вы вашим, я — моим. Картины должны вернуться сюда. А я поеду в Витстен и сам откажу сторожу.
На другой день он позвонил и сказал:
— Я послал вам картину. Это картина улицы Карла Юхана, которая вам так нравится. Но то, что я сказал вчера, остается в силе. Вы занимаетесь своим делом, я своим. Только мне нужно знать одну вещь. Что, газ выключен?
— Нет, газ не выключен.
— Как странно. Здесь газа нет. Берите машину и, пожалуйста, приезжайте.
Газ не был выключен. Но Мунк очень боялся повертывать кран. Он повертывал чуть-чуть. Отходил на несколько метров и зажигал спичку. Если газ не зажигался, он закрывал кран и хотел, чтобы кто-нибудь другой попытался зажечь. Я зажег газ. Он попросил меня сварить яблочный компот, пока он рассказывал о своих трудностях:
— Дочь брата прислала мне письмо из Нурланна. Она хочет отправить детей учиться в Осло. Спрашивает меня, следует ли ям учиться. Я не знаю, способны ли они к учению. Что мне ответить? Я не хочу, чтобы они жили у меня, как я буду работать, если дом полон ребят? Они, наверно, приедут сюда. Зачем она меня спрашивает — отправлять ли их в Осло? Я посылаю ей тысячу крон и пишу, чтобы она не вмешивала меня в такие дела.
Вдруг он взял ложку и вынул яблоко из кастрюли. Подошел ко мне.
— Пожалуйста, — и положил яблоко мне в руку. Оно было горячее, и я его уронил. Он посмотрел на меня.
— Вы не любите яблоки?
— Оно горячее.
— Да, да. — Он стоял и смотрел на расплющенное яблоко.
— Очень опасна кожура. На ней можно поскользнуться. Нужно это поднять, пока мы не сломали себе шею.
Я стал помогать ему. Собрать всю массу было трудно. Я хотел принести тряпку.
— Нет, не трите. Пусть лежит. Мы пойдем в гостиную.
Мы вошли в комнату, и Мунк продолжал говорить о своих трудностях.
Вдруг он сказал:
— Газ открыт. Будьте добры, закройте его.
Я встал, но не успел сделать нескольких шагов, как он остановил меня:
— Будьте осторожны. Вы помните, что там лежит яблоко?
После похорон моего младшего брата Мунк попросил меня прийти. И первое, что он сказал:
— Извините, что я не пришел на похороны вашего брата. Я послал венок. Я не в состоянии это видеть. Это так на меня действует. В последний раз я был на похоронах, когда умерла моя сестра. Я долго не мог от этого оправиться. Что такое я говорю? Я ведь не знал вашего брата. Я его никогда не видел. Это, наверно, не подействовало бы на меня так. Но это правда, что я не могу этого выносить. Я никогда не хожу на похороны. Когда умер мой двоюродный брат, я поехал в крематорий, но не вошел. Сидел в машине. Видел дым. Он был желтый, жирный.
Мунк редко бывал в театре или на концертах. В театре всегда брал место в первом ряду у прохода. Он, как правило, приходил поздно и уходил до конца спектакля.
— Я не могу целую вечность сидеть неподвижно.
В тридцатых годах, когда в Осло гастролировали иностранные знаменитые певцы, он попросил каждый день покупать ему билет на «его» место. На другой день позвонил и сказал:
— Не покупайте больше. Я вчера слушал «Тоску». Пели по-моему хорошо. Но декорации ужасные. То же самое, что тридцать лет назад — я уверен, что декорации, которые я написал для Макса Рейнгардта, сегодня показались бы чем-то новым. Правда ли, что все изменилось, за исключением театральной живописи?
В 1930-х годах некий Оскар Юханнессен был одним из самых известных торговцев художественными произведениями в Осло. Без денег, не имея специального образования, он добился того, что стал самым крупным торговцем картин в Осло. У него не было магазина, но он ежедневно продавал картины почти немедленно после того, как их покупал. Он говорил о себе:
— Я не говорю, что смыслю в искусстве. Я просто знаю, чего люди хотят и сколько можно получить за картину. Картина не должна быть слишком большой. Иначе ее трудно продать. Она должна быть такой, чтобы ее можно было повесить над шкафом или над письменным столом. Если это Аскеволл [19] — то на ней должны быть изображены коровы. Если Таулов[20],— текущая вода. Если Мунк, картина должна выглядеть так, как будто ее написал Кристиан Крог. Если я сомневаюсь в картине, я спрашиваю жену. И попадаю в точку.
Однажды Юханнессену удалось пройти к Мунку. Он пришел, чтобы купить картины. На другой день он мне сказал:
— Нет, Мунк трудный человек. Он говорит без умолку, но ни слова о картинах. Я ничего не смог купить. Не можете ли вы мне достать несколько картин Мунка? У меня много покупателей.
Будучи у Мунка, я сказал, что Юханнессен очень хотел бы купить картины.
— Да, он был у меня. Это было ужасно. Он говорит, говорит. Все время прерывал меня. Я не смог сказать ни слова.
Однажды ко мне пришел торговец картинами с тремя картинами Мунка. Мне казалось, что я их видел раньше. Я попросил его подождать и позвонил Мунку. Оказалось, что эти три картины были украдены из Экелю. Они стояли в саду. Укравший, молодой парень, продал их торговцу. Я взял картины и поехал к Мунку. Мунк был расстроен.
— Подумайте, а вдруг он застрелится. Это молодой человек, сын известных родителей. Будьте добры, пойдите к нему и скажите, что никакого судебного дела не будет. Передайте привет и скажите, что об этом никто не узнает. Да, скажите также, что это плохие картины. Они проходили один лошадиный курс лечения за другим. Они стояли в саду месяцами и стали только хуже.
Парень был далек от самоубийства. Он нагло заявил, что Мунк сам дал ему эти картины.
Услышав об этом, Мунк сел, вытер пот со лба и сказал:
— Это ужасно. Мы будем шаг за шагом припирать его к стене и он убьет себя. Убьет из-за дрянных картин. Или же заставит людей ему поверить. Да, большинство ему поверит. Поверят, что он позировал мне или еще чему-нибудь. И он заберет все, что сможет, здесь, и скажет:
— Я их получил. Картины дал мне Мунк. Мы большие друзья.
— Нет, мне нужно переезжать в Витстен. Я не могу здесь жить. Ни колючая проволока, ни злые собаки не помогают. Я не могу здесь жить. Они стоят и смотрят на меня, когда я гуляю в саду. Стоят и глазеют. И к тому же усадьба расположена чертовски низко. Все, что они выливают, течет ко мне. У них там сухо, а я шлепаю по всему тому, что они вылили. А теперь у них появилась новая тема для пересудов: подумайте, Мунк-то отдает этому парню одну картину за другой. Разве это не странно? Мунк отдает ему одну картину за другой!
— Да, можете не сомневаться, теперь они будут судачить. И скоро вся свора набросится на меня. В прошлый раз они жаловались, что мои дома не похожи на виллы, что я сбиваю цены на их участки, порчу всю округу моими простыми деревянными постройками. Да, вот увидите, новая вода польется на мельницу сброда из Осло. Я не буду знать покоя ни на минуту.
Мунк поехал в Витстен и пробыл там некоторое время. Как-то в воскресенье я отправился к нему.
Он пожаловался, что к нему приезжает один известный человек из Осло.
— Я увидел его на улице Карла Юхана, и мне захотелось его написать. Я подошел и спросил, не пожелает ли он мне позировать.
— С удовольствием, — ответил он.
— И вот теперь он приезжает каждый день, садится передо мной на стул, а у меня ничего не клеится. Мы разговариваем, разговариваем, и наконец он говорит:
— Вы не будете рисовать?
— Рисовать? — говорю я.
— А разве вы не собирались написать мой портрет? Я право не знаю, будет ли у меня еще время, чтобы приезжать сюда.
— Он взял шляпу и ушел. Рассказав мне все, что он совершил в этом мире. Он, конечно, считает, что орден св. Улафа, который я получил, должны были бы дать ему.
Мы сели, и Мунк, рассказывая, что он никак не мог начать писать, что-то вырезал на деревянной пластинке. Он не отрывал от нее глаз, говорил и резал. Все более и более энергично. Я не знал, что он делает, и был удивлен, увидев, что это мой портрет.
Перед моим отъездом вбежал сторож и сказал: