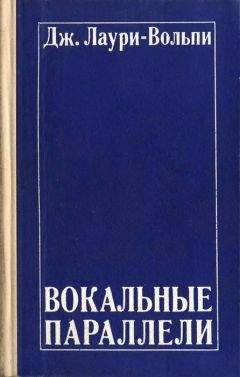Микрофон иногда награждает голос качествами, которых в нем нет, иногда не доносит того, что есть, но неизменно мумифицирует голос, делает с него безжизненный слепок. Усилители и звукосниматели изменяют или даже искажают черты вокального «лица». (Вспомним, что тембр считается лицом голоса, как сам голос считается отображением духовного мира артиста.) Есть голоса, которые в записи выигрывают. Пластинка придает им богатство и блеск красок, начисто отсутствующие в естественном звучании. Другие голоса, наоборот, в записи звучат как-то урезанно, и присущая им тембровая красота скрадывается. Отсюда напрашивается вывод: никогда не следует всецело доверяться впечатлению от прослушивания записей и радиотрансляций. Нужно непременно прослушать данный голос «живьем» и судить о нем по реальному впечатлению, вызванному непосредственным слушательским общением.
Хуже всего, однако, то, что техника, искажая истину, фабрикует фальшивые ценности и дезориентирует этим недолговечные и своенравные привязанности современной публики, так легко подпадающей под влияние демагогов и мистификаторов. А ведь еще олимпийские боги имели обыкновение мстить смертным, которым легковерие служило вместо эстетического чутья. Тупой царь Мидас осмелился предпочесть вокальные упражнения сатира Марсия пению самого Аполлона. Аполлон наказал Мидаса, дав ему в награду пару ослиных ушей. Незадачливого же сатира он привязал к сосне и заживо содрал с него кожу. Ах, как жаль, что божественный кожевник забыл дорогу на землю! Заглянув в залы оперных театров, наполненных публикой респектабельной и лощеной, он роздал бы зрителям немало первосортных ослиных ушей и привязал бы к соснам у входа в театр добрую толику современных нам исполнителей. Ибо царь Мидас оказался лишь родоначальником неисчислимого потомства длинноухих зрителей и не менее длинноухих критиков. К несчастью, тот камыш, что на ветру принимался шуршать «у Мидаса — ослинные уши», вырван и затоптан, а божественная свирель Аполлона давно предана огню. И сегодня Аполлоново пение откровеннее, чем когда-либо, сливается с ослиным ревом в срамную какофонию. Молодое же поколение зачастую неспособно отличить рева от пения.
Кармен Мелис
Эта певица — редкий пример искренности и самопонимания. Уйдя из театра, Кармен Мелис стала преподавать в консерватории города Пезаро, где среди других певиц, работая неторопливо и осторожно, вырастила Ренату Тебальди. Критически анализируя свое исполнительское прошлое, она недавно заявила, что, доведись ей начать все сначала, она не посмела бы повторять тех ошибок, на которые она не обращала внимания в течение многих и многих лет работы на оперной сцене, где, кстати говоря, она пользовалась огромным успехом в десятилетие 1910–1920 года и репутацией одной из хитроумнейших певиц. Человеку, наделенному столь ясным и столь высоким сознанием чести артиста, следует верить. Следует ей верить и в другом: накопив преподавательский опыт и ежедневно общаясь с молодыми певцами, она заметила, что великие артистки, которым она подражала столь восторженно и безоглядно, имели обыкновение грешить чрезмерно акцентированной слоговой артикуляцией. Они нажимали на согласные и расширяли, выпячивали гласные, в особенности первую гласную слова. Это приводило к «подрагиванию» звукового столба (опоры) и к ухудшению полетности звукового «луча». Отсюда можно сделать вывод, что «округлость» нот, мягкость и бархатистость вокала, умеренность в дозировке звука и хорошее легато не были в числе достоинств, скажем, Эммы Карелли или Джеммы Беллинчони. Так оно и есть на самом деле: эти певицы отличались способностью захватывающе повествовать со сцены, были настоящими мастерами декламации, обладали большим исполнительским темпераментом, но техника певческой фонации у них хромала.
Автор пел вместе с Мелис в «Тоске» и в «Манон Леско» Пуччини. Флория в исполнении сардинской певицы, наделенной голосом чисто лирическим, обретала драматичность разве что за счет темперамента исполнительницы. Ее Манон, хотя и в большей степени соответствовала изображаемому персонажу, не становилась от этого менее неопределенной. В толковании обоих образов сквозила некая нерешительность, та особая встревоженность артиста, который не убежден, что сумел примирить теорию с практикой. Посвятив же себя искусству преподавания, Мелис достигла в нем ювелирной филигранности и обрела самое себя в голосе своей ученицы. Она воспитала Тебальди в духе принципов, которые даже последними певцами XIX века, уже испорченными веризмом, не всегда соблюдались с надлежащей верностью и постоянством. В самом деле, если чрезмерная декламационность, драматичность словесной подачи идет на пользу дела в театре драматическом, она вовсе не у места в театре музыкальном. Путать Эвтерпу с Мельпоменой и Талией, создавая из них нечто среднее, — большая ошибка.
Следует, правда, оговориться, что подобные учителя, как и подобные ученицы, — явление довольно мало распространенное. В наши дни певцы, за редкими исключениями, утратили секрет отчетливой дикции старой школы в соединении с округлостью звука, типичной для школы, которая должна была бы стать новой. Но выбирая между выпуклостью чересчур выразительной декламации, с одной стороны, и неразборчивым завыванием — с другой, мы отдаем предпочтение все-таки декламации. Нужно сказать, что врожденный хороший вкус и естественная аристократичность оградили Кармен Мелис от крайностей как сценических, так и связанных с подачей слова. Благодаря этим качествам артистка покоряла зрителей искренностью существования в образе и обаянием.
Онелия Финески
Это голос, исполненный стихийной мелодичности, мягкий, по своей природе чисто лирический. Прибавьте сюда четкую, рельефную подачу слова и хрустальную звучность тембра.
Флорентинка Онелия Финески пела, казалось, уходя в область подсознательного, она словно покорялась исходившему извне гипнотическому внушению. Создавалось впечатление, что во время пения она изумленно прислушивается к самой себе или, скорее, слушает кого-то или что-то, поющее в ней. Личность ее была словно бы исключена из происходящего на сцене и почти не имела отношения к формированию вокальной струи. Этот своего рода певческий сомнамбулизм бросался в глаза, едва артистка появлялась на сцене, точно она впадала в транс, переступая порог своей артистической уборной. Это был редкий случай раздвоения сознания, благодаря чему многим ее персонажам сообщалось что-то эфирное, потустороннее. Лакме, юная индийская жрица, которая под черным южным небом, унизанным жемчужинами звезд, поет хвалу Брахме, владыке вселенной, была в исполнении Онелии Финески ожившим голосом природы, голосом мечты. Сама мысль о контроле такого пения сознанием выглядела нелепой.
Но час пробуждения, час возвращения к действительности был близок. Некий то ли неосторожный, то ли малоопытный дирижер пригласил ее в театр «Ла Скала» петь Леонору в «Трубадуре» Верди. Ни характер ее голоса, ни ее темперамент, ни ее психика не соответствовали бурным страстям вердиевской оперы. Лишенный счастливой помощи подсознания, безошибочный доселе певческий инстинкт стал отказывать, появилось качание звука. Очарование исчезло. Наступила катастрофа как психическая, так и вокальная, осложненная последствиями недавнего материнства. И вот в артистической уборной певицы стали появляться врачи-ларингологи, специалисты по психоанализу, парапсихологи, гипнотизеры и даже знахари. Все они изощрялись в попытках вернуть прежнюю форму драгоценному голосу. Прошло несколько лет, прежде чем к этой неопытной, но такой многообещающей певице стал возвращаться ее дар — то «нечто», которое пело в ней, словно соловей в ночной роще.
Параллель Мелис — Финески
Отправная точка для сравнения этих двух вокалисток — это присущая им обеим склонность к раздвоению личности. Голоса их жили как бы сами по себе, не нуждаясь в поддержке телесной субстанции. Обладательницы же их на сцене выглядели как зрительницы и слушательницы самих себя, хотя и старались это скрыть.
Кармен Мелис наблюдала и, вопреки видимости, оценивала свое пение умом пытливым и наблюдательным. Она не приходила в восторг от звуков, что вылетали из ее гортани, а старалась сделать их менее неуверенными за счет выразительной фразировки и осмысленных интонаций. К этому добавлялись обдуманность сценического поведения и подвижная мимика южанки. Но напряженный умственный поиск не давал ей покоя даже на сцене; благодаря ему, собственно, она и имела столь отсутствующий вид.
Финески, не уступавшая ей в грациозности и элегантности, казалась отчужденной от своего вокала не от того, что чересчур внимательно за ним следила, а благодаря какому-то удивлению тем таинственным процессам, которые совершались где-то за пределами ее существа.