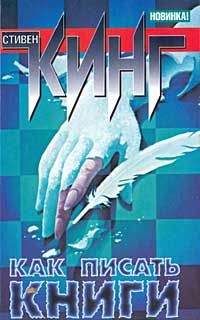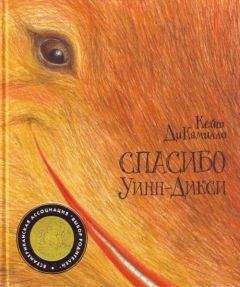Табби мне помогала – например, она мне сказала, что школьные автоматы по выдаче тампонов работают без монет – администраторам не нравится мысль, что девушка будет ходить с залитой кровью юбкой только потому, что забыла кошелек. Я тоже сам себе помог, раскапывая воспоминания о старших классах (работа учителем английского не помогала – к тому времени мне было двадцать шесть, и я сидел не с той стороны стола) и вспоминая двух самых одиноких, запущенных девиц из моего класса – как они выглядели, как себя вели, как с ними обращались. Редко когда за всю историю своей работы приходилось мне исследовать более неприятные области.
Одну из этих девушек я назову Сондра. Они с матерью жили в трейлере неподалеку от меня, и с ними собака по кличке Чеддер. У Сондры был булькающий неровный голос, будто она говорит через горло, наглухо забитое слизью. Жирной она не была, но ее тело казалось каким-то рыхлым и бледным, как бывает изнанка шляпки у грибов.
Волосы у нее липли к щекам, как кудряшки Сиротки Анны. Друзей или подруг у нее не было (наверное, кроме Чеддера). Однажды ее мать наняла меня подвинуть мебель. В гостиной трейлера доминировал распятый Иисус почти в натуральную величину – глаза подняты к небу, рот обращен вниз, из-под игл тернового венца каплет кровь. Он был обнажен, если не считать обмотанной вокруг бедер тряпки. Над этим клочком материи – ввалившийся живот и торчащие ребра, достойные узника концлагеря. До меня дошло, что Сондра выросла под агонизирующим взглядом этого умирающего бога, и это сыграло свою несомненную роль в том, что она теперь такая, как она есть: робкая и нелюдимая изгнанница, крадущаяся как испуганная мышь по коридорам Лисбонской школы.
– Это Иисус Христос, Господь мой и Спаситель, – сказала мать Сондры, перехватив мой взгляд– А ты спасен, Стиви?
Я поспешно ответил, что спасен настолько, насколько это возможно, хотя я не думал, что подобная версия Иисуса сможет сильно поспособствовать спасению от чего бы то ни было. Он ведь от боли спятил – по его лицу видно. Уж если такой придет второй раз, он вряд ли будет в настроении спасать этот мир.
Вторую девочку я назову Доди Франклин, только все остальные девочки называли ее Додо или Дуду. Родители ее интересовались на свете только одним – участием в конкурсах. Это они умели; они выигрывали всяческие дурацкие призы, в том числе годовой запас тунцовых деликатесных консервов «Три Дайамондс» и автомобиль «максвелл» от Джека Бенни. Этот «максвелл» стоял возле их дома в той части Дерхема, которая называется Юго-Западный Поворот, и постепенно тонул в пейзаже. Каждый год-другой одна из местных газет – портлендская -«Пресс-Геральд», или льюстонская «Сан», или лисбонская «Уикли энтерпрайз» – публиковала заметку об очередном идиотском призе, который выцарапали предки Доди. Обычно это бывало фото «Максвелла», или Джека Бенин со своей скрипкой, или и то и другое.
Что бы там Франклины ни выигрывали, в этом пакете не было одежды для девушки-подростка. Доди и ее брат Билли каждый день ходили в одном и том же первые полтора школьных года: черные штаны и клетчатая рубашка с коротким рукавом у него, длинная черная юбка, зеленые носки до колен и белая безрукавка у нее. Некоторые читатели могут решить, что «каждый день» – это не в буквальном смысле, но те, кто жил в малых городках в пятидесятых – шестидесятых, знают, что так оно и было. В Дерхеме моего детства жизнь шла почти без косметики, а то и совсем без нее. Со мной ходили в школу ребята, таскавшие на шее месяцами одну и ту же грязь, дети с кожей, покрытой болячками и сыпью, с лицами как сушеные яблоки – все в шрамах от ожогов, дети, у которых в мешке с завтраком лежали камни, а в термосах был чистый воздух. Нет, это была не Аркадия. Собачьим миром был Дерхем, без всякого чувства юмора.
В начальную школу Дерхема Доди и Билл Франклин ходили нормально, но средняя школа – это город побольше, а для детей вроде Доди и Билла попадание в Лисбон-Фоллз означало превращение в посмешище и уничтожение. С интересом и ужасом смотрели мы, как ковбойка Билла выцветала и расползалась кверху от рукавов. Оторвавшуюся пуговицу он заменил скрепкой. Прореха на колене была закрыта липкой лентой, тщательно покрашенной черным карандашом. Белая безрукавка Доди желтела от старости, ветхости и накопленного пота. Чем тоньше она становилась, тем виднее были сквозь нее бретельки лифчика. Другие девочки над ней смеялись – сперва за спиной, потом и в глаза. Поддразнивание превратилось в издевательства. Ребята в этом не участвовали – нам хватало Билла (да, и я тоже. Не особенно усердно, но я тоже там был). А девчонки не просто издевались над Доди – они ее ненавидели. Доди – это было все то, чем они боялись быть.
После рождественских каникул нашего второго года в средней школе Доди вернулась блистательной. Вместо заношенной старой черной юбки появилась новая, клюквенного цвета, длиной до половины икр. Обвисшие гольфы сменились нейлоновыми чулками, и это выглядело отлично, потому что Доди наконец сбрила черный пушок на ногах. Древняя безрукавка уступила место мягкому шерстяному свитеру. Она даже себе перманент сделала. Доди преобразилась, и по ее лицу было видно, что она это знает. Не знаю, то ли она на эти новые вещи накопила, то ли родители подарили к Рождеству, то ли она их где-то выпросила ценой неимоверных унижений. Не важно, потому что сама по себе одежда не изменила ничего. Издевки в этот день были хуже обычного. Товарки вовсе не собирались выпускать ее из клетки, в которую они же ее и посадили, и она несла наказание за одну только попытку освободиться. Я учился с ней несколько лет и мог своими глазами наблюдать ее разрушение. Сначала погасла ее улыбка, свет в глазах потускнел и померк. К концу дня это была та же девочка, что и до каникул, – унылолицее и веснушчатое создание, проскальзывающее по коридорам с опущенными глазами, прижимая к груди учебники.
Эту новую юбку и свитер она надела и на следующий день. И на следующий. И на следующий. Когда кончился учебный год, она все еще их носила, хотя погода была слишком жаркая для шерстяных вещей, и у нее на висках и на верхней губе вечно выступали капельки пота. Домашний перманент больше не повторялся, и новые вещи приобрели потасканный и заношенный вид, зато уровень дразнилок упал до предрождественских показателей, а издевательства прекратились. Кто-то пытался выскочить из клетки и получил палкой по голове, вот и все. Побег подавлен, все заключенные на месте и жизнь вернулась к норме.
И Сондры, и Доди уже не было на свете, когда я стал писать «Кэрри». Сондра уехала из трейлера в Дерхеме, из-под взгляда агонизирующего спасителя, и въехала в квартиру в Лисбон-Фоллз. Наверное, она работала где-то неподалеку, может быть, на обувной или ткацкой фабрике. -У нее была эпилепсия, и она умерла во время припадка. Жила она одиноко, и некому было ее подхватить, когда она упала с повернутой не туда головой. Доди вышла за погодного диктора с телевидения, который прославился на всю Новую Англию тем, что неимоверно растягивал слова. После рождения ребенка – кажется, это у них был второй – Доди спустилась в погреб и пустила себе в живот пулю двадцать второго калибра. Выстрел оказался удачным (или неудачным – зависит, наверное, от точки зрения), и Доди погибла. В городе говорили, что это была послеродовая депрессия – да, очень печально. Я лично думаю, что тут не обошлось без последействия средней школы.
Кэрри – женская версия Эрика Харриса и Дилана Клеболда – мне никогда не нравилась, но Сондра и Доди заставили меня чуть лучше ее понять. Я жалел ее и ее одноклассников тоже – я сам был когда-то одним из них.
Рукопись «Кэрри» ушла в издательство «Даблдей», где у меня был друг по имени Уильям Томпсон. Я почти совсем о ней забыл и жил себе дальше, учительствуя в школе, воспитывая своих детей, любя жену, напиваясь по пятницам и пописывая рассказы.
Свободным уроком в том семестре был пятый, как раз после перерыва на ленч. Обычно я проводил его в учительской, выставляя оценки и жалея, что нельзя сейчас вытянуться на койке и всхрапнуть – я в послеобеденные часы энергичен, как боа-констриктор, только что заглотивший козу. И как-то раз меня вызвали по внутренней связи – Колин Сайтс из канцелярии интересовался, на месте ли я. Я сказал, что я на месте, и он пригласил меня зайти к нему. Мне звонят – жена звонит.
Дорога от учительской в дальнем крыле к канцелярии была достаточно длинной даже во время уроков, когда коридоры пусты. Я спешил, чуть не бежал, и сердце у меня колотилось. Чтобы добраться до телефона соседей, Табби должна была одеть детей и взять их с собой – мне в голову приходили только две причины такого поступка. Либо кто-то из детей откуда-то грохнулся и сломал себе ногу, либо я продал «Кэрри».
Моя жена, запыхавшаяся, но лихорадочно счастливая, прочла мне телеграмму. Билл Томпсон (который впоследствии открыл бумагомараку из Миссисипи по имени Джон Гришем) послал ее после безуспешных попыток позвонить, в результате которых выяснилось, что у Кингов больше нет телефона. В, телеграмме говорилось: