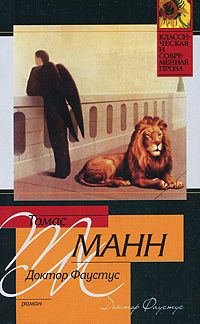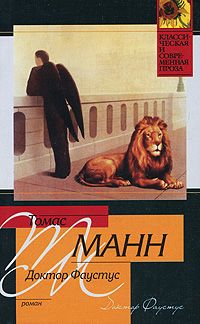Пожалуй, именно такое восприятие Америки преобладало у европейцев, поэтому Готшалка даже не допустили до вступительных экзаменов в Парижскую консерваторию с формулировкой «Америка — страна паровозов» (надо сказать, он попал в неплохую компанию: 21-летний Лист тоже был забракован по причине своего иностранного гражданства). Снисходительные представления о «стране паровозов», по-видимому, отбили охоту ехать за океан у таких композиторов, как Берлиоз, Шуман, Лист и Вагнер, даже несмотря на солидный заработок, который сулило каждому из них подобное путешествие. Впрочем, к 1840-м появление пароходов сократило время, проводимое в атлантических водах, до двух-трех недель, и в этих условиях риск уже казался намного более оправданным.
* * *
Рискнувшие вскоре убеждались, что американцы вовсе не были культурными инвалидами. Один из авторов в 1830-е заключил, что Америка ничуть не в меньшей степени, чем Англия, находится во власти фортепианной лихорадки: «В городах и деревнях от самых восточных до самых западных границ буквально в каждом уважающем себя доме перезвон рояльных струн — такой же непременный элемент звукового фона, как, например, звон посуды». Поэтому гастролирующие пианисты здесь пришлись кстати, особенно те, кто не стеснялся некоторого шоуменства — в конце концов, как заметил Ф. Т. Барнум[20], наличие одного-двух узнаваемых трюков никому еще не мешало.
Леопольд де Мейер
Именно таков был модус операнди австрийского пианиста Леопольда де Мейера, впервые приехавшего за океан в 1845 году. Во время своих европейских и российских гастролей де Мейер заработал репутацию «пианиста-льва» — на карикатурах изображали его скрюченную фигуру, атакующую инструмент не только пальцами, но и локтями и коленями, словно он только сейчас выскочил из своего убежища в джунглях. Самого себя де Мейер называл либо просто «лучшим пианистом современности», либо «Паганини от фортепиано», по имени выдающегося скрипача эпохи романтизма, про которого говорили, что он мог бы соревноваться с самим дьяволом. Критики отмечали невероятную волну звука, которую он производил. Его виртуозные композиции, как писала New York Daily Tribune, «в сравнении с остальными музыкальными произведениями — словно Ниагарский водопад в сравнении с остальными реками». Мощь своей игры де Мейер объяснял тем, что он — «единственный толстяк среди выдающихся пианистов». «И действительно, — сообщал влиятельный Dwight's Journal of Music, — у него экстраординарные физические данные, он сам будто рояль, способный выдержать любую вибрацию струн без малейших усилий».
В арсенале де Мейера было немало необычных трюков — например, он прямо в процессе исполнения таращился на публику «глазами безумца», как назвала это Brooklyn Star. «Леди и джентльменов, желающих познакомиться с его манерой игры» он усаживал прямо на сцену, рядом с собой. Кроме того, де Мейер подбирал концертный репертуар, имея в виду своих новообретенных поклонников — вариации на теми Hail, Columbia или Yankee Doodle производили такой фурор, что в Филадельфии один из критиков всерьез заволновался за жизнь и здоровье музыканта. Как писал другой репортер, в питтсбургской церкви «мужчины, женщины и дети, затаив дыхание, вставали со скамеек, чтобы не пропустить ни одной ноты, и затем в изнеможении опускались обратно, сметенные нахлынувшими чувствами, — они в прямом смысле слова сходили от этой музыки с ума!»
У «пианиста-льва» были и другие трюки — например, он заказывал из Европы рояли, которые в Америке на тот момент были редкостью, и называл их «фортепианными монстрами», чтобы привлечь внимание к своей персоне. Впрочем, в Луисе это вышло ему боком, когда городские власти запросили неподъемную сумму в семьдесят пять долларов за право дать несколько публичных концертов. «О майн готт! Штолько много денег, штобы шыграйт вшего два-три раза?!» — изумился де Мейер. «Мы знаем, что это больше обычного, — ответствовали чиновники, — но, мистер де Мейер, у вас ведь и фортепиано тоже больше обычного!»
К 1846 году манера де Мейера и его бизнес-партнера Г. К. Райтхаймера вести дела начала вызывать критику: пошли слухи, что они платят журналистам за положительные отзывы (вполне распространенная практика) и что для того, чтобы залы были заполнены, Райтхаймер бесплатно раздает билеты всяким «халявщикам» (тогда их называли «мертвыми душами»). «Пианист-лгун»[21], — припечатала де Мейера The Morning Telegraph; после этого вернуть былую славу ему уже не удалось.
Место де Мейера в скором времени занял другой европеец, уроженец Вены и парижский выпускник Анри Герц (1803—1888). Он уже бывал с концертами в Бельгии, Англии, Германии, Испании, Польше и России и теперь был готов покорить американскую публику. «Мой план, — честно признавался он в письме своему брату Чарльзу, — заключается в том, чтобы играть музыку всюду, где можно на этом заработать». Поначалу реакция американцев оказалась достаточно сдержанной, поэтому Герц нанял себе менеджера, Бернарда Ульмана, и выработал новую стратегию.
Как менялось фортепиано
Выдающиеся виртуозы, колесившие по Америке, играли на инструменте значительно более тяжелом и громком, нежели его ранние разновидности. В первой половине XIX века изящный пятиоктавный инструмент с легким натяжением струн (такие производил, например, Иоганн Андреас Штайн (1728—1792)) сначала «оброс» шестой октавой (подобные фортепиано делал зять Штайна Иоганн Андреас Штрайхер (1761—1833) и еще один конструктор, Конрад Граф (1782—1851)), а затем, к концу жизни Бетховена, то есть к 1827 году, стали доступны и семиоктавные инструменты. Звучали они заметно ярче. Струны в ранних штайновских фортепиано выдерживали вес в несколько тысяч фунтов, но к 1830 году инструменты, выходившие из мастерских Штрайхера и Графа, уже обладали натяжением в 14 тыс. фунтов. Конечно, это все равно не идет ни в какое сравнение с современными моделями, которые с помощью трехсотфунтовой чугунной рамы могут выдержать вес вплоть до 40 тыс. фунтов.
В Англии фортепианных дел мастер Джозеф Смит стал экспериментировать с железными скобами в 1799 году; к 1820-му некоторые английские и французские производители использовали металлические бруски, вделанные в деревянную раму, а цельнометаллический чугунный блок был запатентован в 1825 году американце Альфеусом Бэбкоком (1785—1842). В Европе он не применялся до середины XIX века.
Были и другие существенные изменения. В 1821 году лондонское отделение французской фирмы «Эрар» изобрело и запатентовало механизм двойной репетиции, подобный тому, который используется и в современных фортепиано и позволяет играть с намного большей скоростью (потому что молоточки при его использовании получают возможность намного чаще ударять по струнам). В 1826-м французский конструктор фортепиано Жан-Анри Пап (1789—1875) приобрел патент на молоточки, покрытые войлоком (поверх кожаной основы), позволяющие добиться значительно более певучего звучания. Наконец, Альфреду Долджу (1848—1922) пришла в голову свежая идея делать их целиком из войлока, и это быстро стало нормой.
Изобретение в 1820-е годы перекрестного натяжения, при котором струны внутри фортепианной деки располагались по диагонали друг к другу, позволило более экономично организовать пространство — кроме того, басовые струны таким образом получили возможность резонировать по всему корпусу инструмента, а не только с одной стороны. Это новшество восходило опять-таки к Альфеусу Бэбкоку и Жану-Анри Папу, однако в США его запатентовал и впервые использовал в одном из своих фортепиано Генри Стейнвей-мл. в 1859 году.
Анри Герц
Анри Герц играл в намного более рафинированной манере, его основной соперник, — как написал один критик, «пока де Мейер разбивает рояли, Герц разбивает сердца». Тем не менее, осознав, что де Мейер открыл формулу успеха, Герц тоже принялся сочинять свои аранжировки американских патриотических песен. После этого он затеял серию «концертов-монстров», наняв для них целую армию исполнителей, игравших на разных инструментах. В Европе такое было не в новинку — Фредерик Шопен, к примеру, посетил в Вене похожее представление, устроенное бетховенским протеже Карлом Черни (1791—1857), и отозвался о нем неодобрительно: «[Черни] зачем-то придумал увертюру для восьми фортепиано и шестнадцати пианистов и был очень собой доволен». Герц, впрочем, к презрению со стороны снобствующих слушателей относился совершенно равнодушно — одна из его постановок, увертюра к россиниевской «Семирамиде», в которой тоже было задействовано восемь фортепиано и шестнадцать пианистов, обернулась бешеным успехом. Evening Mirror оценивала количество слушателей в 2600—2800 человек. (В XX веке пианист Юджин Лист возродил идею «концертов-монстров», часто используя еще большее количество инструментов и исполнителей, а также допуская на сцену студентов и музыкантов-любителей.)