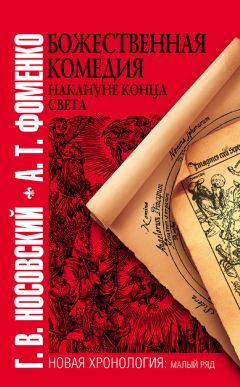* Яростное негодование (латин.).
С мыслью о Свифте он писал стихи, в которых пессимистическое мироощущение сочеталось с сатирой на современное общество. В свифтовском ключе написаны стихи о безумной Джейн, в них звучит насмешка, негодование, ярость — чувство, переполнявшее сердце Йитса. Влияние Свифта сказывается и в эпиграмматическом стиле многих стихов.
Восхищаясь воодушевлением (animation) и бесстрашием (darity) Свифта, Йитс противопоставляет его бесстрастному Бёрку, который писал для высокого собрания: "…Свифт писал для людей, собравшихся за столом или у камина, — отсюда его воодушевление и естественность".
Как драматург, Йитс не мог пройти мимо театра Шекспира, отношение к которому окрашено его мифологическим индивидуализмом и новаторскими исканиями, несовместимыми с пройденными культурой. Обосновывая в Трагическом театре свою неудовлетворенность классическими образцами, в предисловии к Ястребиному колодцу он заключает:
Искусство Шекспира было публичным, то громогласным и декламационным, то лирическим и тонким, но всегда публичным, потому что поэзия была частью общей жизни народа, который был приучен церковью слушать трудные слова, а вместо песенок мюзик-холла пел песни, прекрасные до сих пор. Человек, который напевал "Барбару Аллен" в своем собственном доме, не встретил бы любовные речи Джульетты ироническим хихиканьем — чему я был свидетелем, сидя на галерке театра "Лицеум". Мы должны признать, что произошла перемена, как признали ее живописцы, когда увидели, что их больше не призывают расписывать дворцы и церкви, и стали рисовать картины, чтобы вставить их в раму и повесить на стене. Потеряв в мощи и размахе, мы возместим это изяществом и тонкостью… Если наша современная поэтическая драма потерпела неудачу, так это, главным образом, потому, что, видя образец для подражания в Шекспире, она упорно пыталась восстановить невозвратимое прошлое.
Как и Джойс, Йитс воспитывался на мировой классике, жадно впитывая влияния и возводя Вальгаллу ирландского символизма на традициях античности, Средневековья, мифологии Востока, философской лирики романтиков и прерафаэлитов. Здесь и великая плеяда елизаветинцев, и Блейк, и Шелли, и пасторальная идиллия Д. Г. Россетти, и французский символизм, и Пьер Ронсар, и дух Аластора, и дзэн-буддизм, и квиетический мир древнего востока, и европейская мистика Бёме… Как писал сам Йитс, "наше незначительное воспоминание — это часть одной какой-то великой памяти… и наши мысли не являются, как мы предполагаем, глубиной — это лишь пена на глубоком месте".
Какой смелостью надо обладать, чтобы неисчислимые влияния мирового духа называть пеной! Как и Элиот, как и Джойс, Йитс — один из самых культурных и образованных поэтов мира, новатор, чье творчество глубоко укоренено в мировых традициях.
Путь поэта к символизму "через романтизм" был долгим, напоминал винтовую лестницу, прихотливо бегущую то к прерафаэлитам, то к елизаветинцам, то к Блейку, то к Шелли. Молодой поэт учился у классиков, "примеривал" их стиль, но едва ли можно считать его первые произведения (сборник "Роза", драматические поэмы) только подражательными.
Пути познания обычно представляются восхождением к Истине, прогрессирующим движением к Абсолюту. Мне представляется, что пути к истинам идут не вверх, а вглубь. Истина многослойна, многоуровнева, многомерна. Даже приверженцы рационального мышления признают, что существуют пласты познания, что ученым дано разрабатывать уровни, адекватные их интеллекту, главное свойство которого — предельная глубина, на которую им дано проникнуть. Знание по-кантовски ноуменально, но ноумены у всех разные: потолок одних начальная точка отсчета других. Само рациональное знание — нулевой уровень для интуиции, символа, провидения, вести. Интеллект не может пойти дальше умозаключения, но за умозрением следует откровение. Символ необходим поэту, как средство глубинного и многозначного знания, как переход от рацио к мифу, к многомерности и сокровенности, к "вещи самой по себе", к сокровенной тайне, к мистике провидения и пророчества. Силлогизмом кончается верхняя часть айсберга знания, затем следуют поэтический символ, пророческая или теургическая весть, мистика ясновидения Бёме и Сведенборга. Формулами Ньютона и Эйнштейна кончается одно знание, пророчествами Блейка и Нострадамуса начинается другое, ясными видениями Бёме и Сведенборга — самое сокровенное, третье. Пелену Майи рассеивает Божественная Благодать, но проникнуть сквозь "скорлупу" бытия дано избранникам — пророкам и поэтам.
Начиная с 1900-х годов, и особенно в последние пятнадцать лет жизни, Йитс усиленно штудирует сочинения философов античности — Платона, Плотина, Прокла, мистиков — Бёме, Сведенборга, кэмбриджских платонистов XVII века, вникает в многочисленные мифологические теории (Вико, Вагнера, Ницше, Фрейзера и др.). В результате складывается чрезвычайно сложная философия-мифология Йитса. Он сам так объяснил истоки и характер своей системы: "Лишенный ненавистными Хаксли и Тиндалом простодушной религии своего детства, я создал почти непогрешимую традицию поэтической религии из бремени преданий, персонажей и эмоций, неотделимых от их первоначального выражения, передающегося от поколения к поколению поэтами и художниками при некоторой помощи философов и теологов".
Интеллектуальная и мистическая эрудиция поэтов-символистов сравнима только с дантовской, но и последнюю она превосходит культурой истекших веков. Как затем Джойс, Йитс — мифотворец, но прошедший через "горнило сомнений", выстрадавший право на творение "персонального" мифа. В молодости Йитс старался отрешиться от конструирования собственных, персональных символов, считая, что эмоционально действенны лишь вековечные мифы. В эссе Что есть народная поэзия? он дал право на существование лишь образам, родившимся в недрах традиционного мифа, пракультурным, устоявшимся, пробившимся сквозь тьму тысячелетий. Рационализму и позитивизму, получившему широкое распространение после Конта, Йитс противопоставил именно "глубинное" знание древнейших верований, мифов, культов, магических учений.
Обращение к мифу крупнейших мастеров искусства XX века — Йитса, Джойса, Ануя, Кайзера, Гауптмана, О'Нила, Уильямса, Сартра, Носсака, Казака, Манна обусловлено открытием мифологического измерения времени и человека, новой мало подверженной влиянию времени глубинной сущности человеческого существования. Казимиру Эдшмиду принадлежит замечательная мысль, положенная в основу экспрессионизма: "Нет сомнения, что не может быть истинной реальностью то, что является как внешняя действительность". Реализм, увлеченный "отражением", является величайшим деформатором внутренней правды. Цель нового искусства — глубина, донные срезы существования, глубины бессознательного, где происходит самое главное в жизни человека. Миф — ключ к входу. Художник — спелеолог человеческих пещер.
Художник не воспроизводит — он творит. Он не берет, он рождает. "Реальность искусства создается нами".
Мифы — истолкования душевных состояний, их реалии — истины человеческой души.
Каким бы не было отношение творцов романов-мифов к Фрейду и Юнгу, все они либо находились под их влиянием, либо пришли к аналитике бессознательного собственным путем (что, кстати, объясняет известную болезненность в отношениях с отцами психоанализа).
Почти всю жизнь Йитс изучал ритуальные, космогонические и эсхатологические мифы и "священные книги" разных религий, особенно оккультные, каббалистические и ведические тексты. Считая мистику центром своего учения, он с головой окунается в седую старину, в мир ирландских саг, гэльских мифов, восточную магию, штудирует Печать Соломона, изучает теософию и оккультную символику, переводит Упанишады, изучает Эзотерический буддизм А. П. Синнета и в конце концов приходит к мысли о единой "душе мира" и "великой Памяти", пробуждаемой символами:
Границы нашего сознания находятся в вечном движении… Индивидуальное сознание сливается с другими, выделяя или создавая единое сознание, единую энергию… Границы нашей памяти подвижны… Память каждого — часть одной великой памяти, памяти самой природы. Это великое Сознание и великая Память могут пробуждаться символами.
Оккультизм является важнейшей составляющей творчества Йитса, в известной мере, многие его произведения суть "оккультные эксперименты", "криптограммы", в которых художественные знаки-образы отвечают определенным идеям теософии, каббалы, индийской философии и мистики. Его неиссякающий интерес к мифам сроден с аналитической психологией Фрейда-Юнга — поискам в художественном бессознательном архетипов, тайных знаков и таинств бытия.
Как у нас Даниил Андреев, так — полувеком раньше — Уильям Батлер Йитс глубоко уходит в мистическую эзотерию и спиритизм: он становится членом секты Розенкрейцеров, приобщается к тайне ритуалов, священных знаков и символов этого братства и древних восточных культов — вплоть до аравийских мистиков времен фараона Эхнатона. Как и для Даниила Андреева, мистика для Йитса — и сокровенное знание, и способ символического приобщения к иному, и выражение эскапизма или глубинной подсознательной тяги к сверхъестественному.