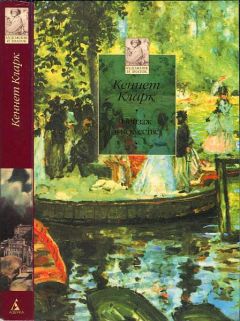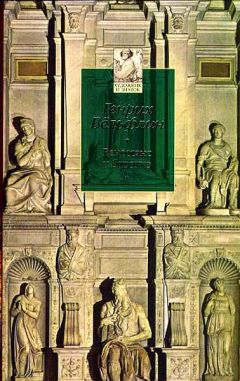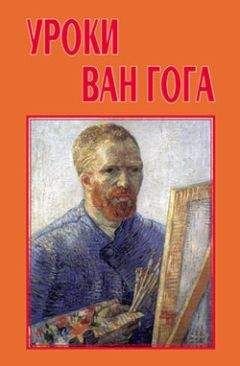Невольно задумываешься, в какой степени эта замечательная концепция пифагорейского пейзажа является изобретением самого Пуссена. В ней нет ничего от Тициана или Джорджоне (в других отношениях оказавших на Пуссена огромное влияние), совсем немного от братьев Карраччи. Думаю, что в построении пейзажа истинным предтечей Пуссена был Джованни Беллини. Хотя Пуссен ни разу не упоминает Беллини, он выполнил полноразмерную копию беллиниевского «Пира богов» — картины, которая в течение долгого времени считалась одной из основополагающих в формировании его стиля. Стоит обратиться к «Вознесению» Беллини, и мы увидим, что оно строится на только что описанных мною геометрических принципах. Нас поражает огромный прямоугольник гробницы — соотношение пустоты и плотности подчинено золотому сечению и ритмичному движению горизонталей. Еще более важен угол, образуемый древком стяга Христа в месте пересечения с грядой облаков; нельзя не заметить, что линия древка продолжена вниз, минуя фигуру спящего воина, и доходит до упавшей двери гробницы. Мы привыкли считать, что искусство Беллини обращено скорее к сердцу и зрению, чем к рассудку, и нас не могут не удивить подобные интеллектуальные упражнения, Но и в фоне «Мадонны в лугах» (ил. 36), и в «Аллегории» из Галереи Уффици (ил. 66) мы видим то же самое.
В живописи Пуссена эти принципы наиболее полно разработаны в героических пейзажах, созданных около 1650 года, особенно в тех, что иллюстрируют историю Фокиона. Они демонстрируют глубокое внутреннее единство формы и содержания в идеальном пейзаже — суровый рассказ Плутарха вдохновил Пуссена на создание самых строгих его композиций (ил. 77). Они призваны символизировать опасность, которой чревато непостоянство черни, приговорившей к смерти великого предводителя единственно на том основании, что он не искал ее расположения и отличался вызывающей раздражение способностью всегда быть правым; по замыслу Пуссена декорации, на фоне которых разворачивается эта история, должны быть предельно простыми. Никакой красоты освещения, никаких пленительных перспектив — только насыщенная, логично построенная бескомпромиссно фронтальная композиция. Прочность этих огромных масс, уверенность, с какой взгляд зрителя уводится вдаль и останавливается евклидовой завершенностью храма, производят впечатление несокрушимой логики. Но в прекрасных мифах, написанных Пуссеном между 1658 и 1665 годами, геометрический пыл остывает или, по крайней мере, маскируется. Эти произведения по-прежнему представляют собой в полном смысле идеальные пейзажи. Как сказал Хэзлитт, «в них реализуется заранее принятое решение. Пуссен использует природу в своих собственных целях, разрабатывает ее образы в соответствии с собственными интеллектуальными критериями… здесь дается основная идея художественного замысла, все остальное вырастает из нее и уподобляется ей благодаря неустанной работе прилежного воображения». Но в том же фрагменте Хэзлитт справедливо замечает, что Пуссен «мог бы придать ландшафту, на фоне которого разворачиваются его героические сюжеты, вид живой природы в ее нетронутой первозданности и полноте, основательной, щедрой, пышной, изобилующей жизнью и силой». И именно это чувственное понимание как органических, так и абстрактных форм делает последние пейзажи Пуссена бесконечно убедительными.
При том что их сюжеты заимствованы из античных мифов — Орфей и Эвридика, Полифем, гигант Орион — и, вне всякого сомнения, навеяны прилежным чтением классических авторов, они, по-моему, ничем не напоминают воображаемые миры Овидия и Вергилия. Они слишком серьезны, слишком отягчены мыслью и осознанием первородного греха. Царство Сатурна закончилось. Глядя на эти долины с таинственными лесами и беззвучными потоками «вдали от пламенной луны», нельзя не вспомнить первые строки «Гипериона» и то, что Китс, который, как правило, искал вдохновения в произведениях искусства, наверняка был знаком с поздними пейзажами Пуссена — теми, что так любили Хэзлитт и Лэм. «Гиперион» — последнее и величайшее произведение в духе Мильтона, и, когда размышляешь о Пуссене, прежде всего вспоминается именно Мильтон. И хотя ему был чужд крайний рационализм Пуссена, у обоих мы находим тот же восторг перед языческим богатством цвета и образности — в молодости; те же напряжение и дидактичность — в зрелые годы; а в старости — те же самоотречение и отрешенность от мира, придающие новую глубину их поэтическому видению.
Самые «мильтоновские» пейзажи Пуссена — четыре пейзажа с изображением времен года — были написаны по заказу герцога Ришелье в годы, когда создавался «Потерянный рай». Бриенн оставил нам отчет о том, какой прием был им оказан: «Nous fûmes une assemblée chez le duc de Richelieu oú se trouverent tous principaux curieux qui furent á Paris. La conférence fut longue et savante… Je parlai aussi et je me declarai pour le „Déluge“. M. Passart fut de mon sentiment. M. Le Brun qui n'estimait guére le „Printemps“ et „l'Automne“, donna de grands éloges a „l'Eté“. Mais pour Bourdon, il estimait le „Paradis terrestre“ et n'en démordit point»[44].
Даже под слоем грязи и потемневшего лака эти благородные произведения по сей день являются предметом восхищенных споров любителей живописи, и я, как и их первые поклонники, не знаю, какое предпочесть. Иногда, как и Бурдону, мне кажется, что лучшее из них «Весна» — прекрасная иллюстрация к «Потерянному раю», где искусством композиции нашим прародителям отводится причитающееся им место в природе. Иногда, как Лебрен, склоняюсь к тому, что ничто не может превзойти «Лето» (ил. 78), в котором настроение «Георгик» поднято до торжественной серьезности; думаю, здесь меня поддержал бы Сезанн, ведь на композиционное решение его работ во многом повлияли параллелизм «Руфи и Вооза» и высокое дерево в левой части этой картины. И все же самое удивительное доказательство мощи Пуссена — «Зима», где художник придал романтическому сюжету логику и последовательность своих лучших классических композиций, не жертвуя при этом драматической силой.
78. Никола Пуссен. Лето, или Руфь и Вооз. Из цикла «Времена года». 1660–1664Пуссен — один из немногих художников, чье влияние было абсолютно благотворно. А это далеко не всегда говорит о величии: творцы, подобные Рафаэлю и Микеланджело, как правило, исчерпывают возможности избранного ими стиля. Это также отнюдь не обязательный признак художника-классициста: если влияние Энгра было в целом пагубным, то ученики Рембрандта писали картины, которые трудно отличить от работ их учителя. Влияние Пуссена благотворно, ибо он в полной мере соединял в себе идеальное и реальное. Его безупречное чувство композиции воспитано наблюдением, а его самые восторженные видения всегда остаются конкретными. Без его чувства формы Гаспар Дюге сделался бы чем-то вроде Шарля Жака. Но оба они создавали прекрасные пейзажи; Гаспар Дюге в тех работах, где его авторство не вызывает сомнений, таких как фрески в Палаццо Колонна или пейзажи из Национальной галереи (ил. 79), предстает перед нами одним из самых недооцененных художников в истории живописи. Он обладал даром откровенного натуралиста, что делает его прямым предшественником художников барбизонской школы, хотя Руссо так и не удалось приблизиться к его композиционной ясности. Даже романтическая сторона Пуссена нашла продолжение в работах Франсиска Милле: в его «Разрушении Содома» присутствует нечто вроде альпийской панорамы, которую Рёскин считал изобретением Тёрнера. Вполне закономерно, что во времена рококо влияние Пуссена пошло на убыль, а в эпоху героического классицизма возродилось. Через Пьера Анри Валансьена оно переходит в работы раннего Коро, и, хотя впоследствии Коро станет гораздо ближе Лоррен, тень Пуссена осеняла пейзажи Милле и Писсарро задолго до того, как Сезанн демонстративно вернулся к его принципам.
79. Гаспар Дюге (Гаспар-Пуссен). Дорога в окрестностях АльбаноМысль о том, что подлинное понимание природы может сочетаться со стремлением к интеллектуальной упорядоченности, в Англии поддержки не нашла. Несмотря на все красноречие Хэзлитта, среди английских художников мы почти не находим последователей Пуссена. Тёрнер считал «Зиму» вялым произведением, и только Констебл попытался извлечь некоторую пользу из его открытий. Лоррен же, напротив, создал более простую основу для появления английской национальной школы живописи. В нежной поэтичности Клода, в его грустном взгляде на исчезнувшую цивилизацию, в его уверенности в том, что всю природу, подобно английскому парку, можно возделать на радость человеку, было что-то находившее отклик в душе английских собирателей XVIII века. Иногда его композиционные принципы с их кулисами и театральными деревьями выражались излишне упрощенной формулой, но Уилсон в лучших своих произведениях усвоил два главных урока Лоррена: что центр пейзажа — это участок света и что все должно быть подчинено единому настроению. Поэтому Уилсон, художник несомненно одаренный, является весьма посредственным поэтом, чем-то вроде Уильяма Коллинза, пишущего свою «Оду к вечеру» классическим метром, но с новым мироощущением.