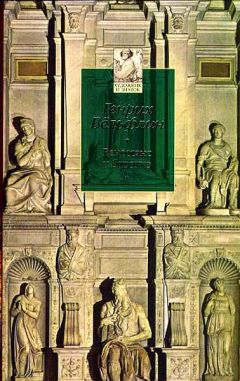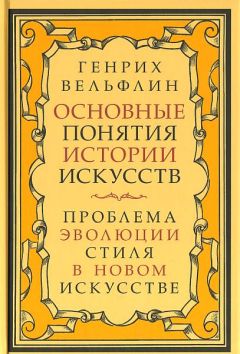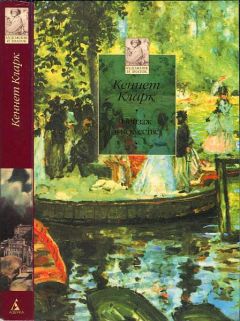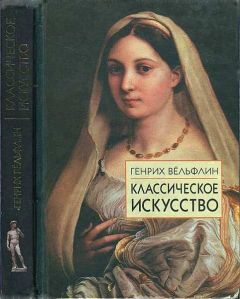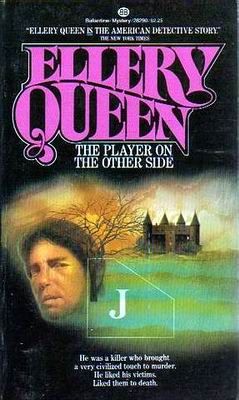Римский барочный идеал телесности может быть определен так: вместо стройных и упругих фигур ренессанса появляются массивные, крупные, малоподвижные тела с преувеличенной мускулатурой и развевающимися одеяниями (тип Геркулеса).
Радостная легкость и гибкость исчезают. Все становится более тяжелым и прижимается к земле под гнетом своей тяжести. Лежащие фигуры тупо неподвижны, лишены какого-либо напряжения.
В то время как ренессанс чувствовал все тело и за облегающими одеяниями постоянно видел его очертания, барокко упивалось цельными массами. Лучше ощущалась материя, чем внутренняя структура и членение. Плоть здесь недостаточно твердая; она мягка, бессильна и не обладает упругостью мускулатуры ренессанса. Члены связаны, несвободны и неподвижны в суставах; они находятся в плену у массы; фигура остается внутренне зажатой.
Но это лишь одна из сторон: массивность здесь всегда сочетается с сильным движением, которое достигает порой мощи и безудержного размаха. Изображение движения вообще основная цель барокко.
По мере развития стиля темп движения все ускоряется, становясь наконец торопливым и стремительным. Сравните изображения «Вознесения» у различных мастеров. «Вознесение» Тициана — это тихое и плавное движение вверх; у Корреджо — уже шумный полет; у Агостино Карраччи — почти молниеносная стремительность.
В качестве идеала видится не уравновешенное бытие, а состояние взволнованности. Всюду господствуют возбуждение и страсть; все, что раньше было простым и свободным выражением широко живущей натуры, превращается в страстное напряжение. Спокойная поза становится воодушевленно-патетической или переходит к дикому порыву, словно бы задействована могучая сила, идущая на все во имя победы.
Как характерно изменились «Рабы» Сикстинской капеллы Микеланджело35 в соответствующих образах галереи Фарнезе, созданных Карраччи! Сколько в них беспокойства, сколько изломов!
Все произвольные движения тела становятся тяжелыми, неловкими, требуют необычайной затраты сил.
Отдельные члены тела утрачивают свою самостоятельность, свою свободу. Малейшее движение требует участия всего корпуса.
Тело бессильно выразить крайние проявления экстаза и дикого восторга. И когда отдельные члены поддаются им, все оно в целом продолжает цепенеть в тяжелой неподвижности.
Нерасчетливая растрата энергии вовсе не обозначает избытка физических сил. Напротив, действие двигающихся членов неудовлетворительно, а вся власть над телом, осуществляемая импульсами духа, — весьма несовершенна.
Между волей и телом произошел разрыв. Кажется, что люди этого времени не умеют управлять своим телом и не вполне владеют своей волей: оживление и движение распределены неравномерно.
Состояние бессилия, вялости, аморфной покорности при стремительности движения отдельных частей становится со временем исключительным идеалом искусства.
Для примера сравните «Галатею» Рафаэля в вилле Фарнезина и то, как ее написал Агостино Карраччи в палаццо Фарнезе. Пример выбран очень скромный, но даже его вполне достаточно для выявления черт, характерных для барокко. У Карраччи движение живее, более аффектированно, но как далека вся фигура его Галатеи от легко несущей свое тело Галатеи Рафаэля! Масса ее тела тяжелее, она бессильно клонится к земле, безвольно подчиняясь законам тяготения[98].
В тех случаях когда тяжесть всего тела не могла быть выражена достаточно ярко, барокко прибегало к помощи огромных масс одеяний, для того чтобы при их помощи сделать контраст между взволнованным движением и тупой пассивностью целого более убедительным.
Так изображалось человеческое тело в Риме в последовавшее за ренессансом время[99].
Нетрудно провести параллель в отношении архитектурной формы: массивность, тяжеловесность, неспособность собраться с силами, отсутствие гибкости и равномерного членения, наращивание движения и усиление экспрессии, страстная возбужденность, — здесь наблюдаются те же симптомы, что и при передаче человеческого тела.
Параллельна и эволюция этих видов искусства-, давление тяжести ослабевает и в середине XVII столетия архитектура вновь обращается к легкости. Но этот момент выходит за пределы нашего исследования.
5. У истоков этого искусства, естественно, не мог стоять никто иной, кроме Микеланджело, — насколько вообще позволительно связывать мировую судьбу искусства с именем отдельного человека. Микеланджело по праву присвоено имя «отца» барокко, но не за его «самовольность» в архитектуре — ибо произвол не бывает стилевым принципом, — а за его властную манеру обращения с телом и за его необычайную глубину, которая могла найти себе выражение лишь в бесформенном. Современники называли эту черту «terribile»36.
По поводу стиля Микеланджело, становившегося со временем все своеобразнее, я повторю несколько замечаний, заимствованных из характеристики А. Шпрингера: «Образы Микеланджело обладают гораздо большей силой, чем это бывает в природе. И в то время, как в античности все действия были проявлениями свободной личности и в любой момент могли быть сдержаны, а мотивы их — скрыты, мужчины и женщины Микеланджело, наоборот, представляются нам безвольными порождениями внутреннего чувства. Это чувство не оживляет гармонически и равномерно отдельные члены тела: одним оно дает всю полноту выражения, другие же оставляет тяжелыми и безжизненными»[100], «…отсутствует равномерность одушевления», «…сверхчеловеческая сила одних частей и грузная тяжесть других». Массивное, почти геркулесовское строение тел. Впечатление беспокойства усилено открытым противопоставлением частей тела (контрапост). Напор чувств словно разрывает фигуры, но движение их сковано: лишь изредка чувство преодолевает косность массы — с тем большей силой и страстностью, чем упорнее было ее сопротивление. Некоторые образы Микеланджело, как говорил Я. Буркхардт, на первый взгляд дают впечатление не возвышенно-человеческого, а подспудно-чудовищного[101].
6. Фигуры капеллы Медичи стали вершиной его искусства. Они полнее всего выражают дух, которым проникнут этот стиль. Глядя на эти так называемые аллегорические фигуры, не следует слишком много думать ни об аллегории, ни о месте, где они размещены. Эти образы Ночи и Дня, Вечера и Утра, распростертые, глухо вздыхающие, борющиеся со сном, с судорожно сведенными или безжизненно падающими членами, одержимы глубоким внутренним беспокойством и неудовлетворенностью, — тем настроением, которое у Микеланджело проявляется повсюду (как в стихотворениях, так и в статуях[102]) и которое можно было бы назвать мировой скорбью, если бы эти слова не стали плоскими и невыразительными.
Удивляешься как чуду тому, что Микеланджело удалось подчинить свои чувства пластической форме[103]. Но, быть может, еще удивительнее то, что он заставил и архитектуру служить выражением подобных мыслей. Все его сооружения носят печать индивидуальности, единственной в своем роде. Они передают личное настроение с силой и остротой, которых в архитектуре не достигал никто — ни до него, ни после.
7. Микеланджело нигде не воплотил счастливого бытия. Уже поэтому он стоит вне ренессанса. Последовавшее за ренессансом время сурово по своей сути.
Эта суровость проявляется во всех сферах[104]: в религиозном самосознании светское вновь противопоставляется церковному, откровенное наслаждение радостями жизни — исчезает. Tacco избирает для своего христианского эпоса героя, утомленного миром[105]. В обществе, в социальных отношениях господствует сдержанность; вместо свободной грации ренессанса — серьезность и достоинство; вместо легкой и веселой игривости — торжественная и шумная роскошь; повсюду стремление только к величественному и значительному.
8. Интересно проследить, как проявился новый стиль в поэзии. Перемену настроения вполне выражают различия в языке Ариосто и Tacco[106]. Достаточно сравнить начало «Неистового Роланда» (1516) с началом «Освобожденного Иерусалима» (1584).
Как просто, весело и оживленно начинает Ариосто:
Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori,
Le cortesie, l'audaci imprese io canto,
Che furo al tempo, che passare i Mori
D'Afnca il mare, e in Francia nocquer tanto…
(Дам, рыцарей, оружие, влюбленность
И подвиги и доблесть я пою
Времен, когда, презревши отдаленность,
стремили мавры за ладьей ладью на Францию…[107])
И как отличается от него Tacco:
Canto l'armi pietose, e il Capitano
Che il gran sepolcro libero di Cristo:
Molto egli opro col senno e con la mano;
Molto soffr[gv]i nel glorioso acquisto:
E invan l'Inferno a lui s'oppose, e invano
S'armo d'Asia e di Libia il popol misto;
Che il Ciel gli die favore…
(Пою мечи святые и героя,
Который гроб Христов освободил.
Велик умом и дланью тверд средь боя,
Преград в борьбе он много находил.
Вотще Восток и Юг в толпах, без строя,
Вотще с ним ад на битву выходил:
Всегда Господь, под сенью благодати,
Сбирал его рассеянные рати[108].)
Обратите внимание на преувеличенно торжественные эпитеты, на звучные окончания, на тяжелые повторения (molto — molto; e invan — e invano), на полновесное строение фраз и замедленный ритм целого.