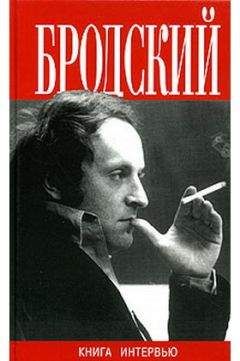Как видите, переговоры идут вовсю, ко мне заезжают, но это медленно движется. Посмотрим.
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"
(Писатели, эмигрировавшие после 1970 года)
ФАНТАСТЫ И ЮМОРИСТЫ
ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
Вашингтон, июль 1982
ДГ. Сергей Юрьенен пишет, что вы безусловный лидер авангардного направления в современной русской прозе. В чем этот авангардизм заключается, и сознательно ли вы к нему стремились?
ВА. Да нет, я бы сказал, что все это, конечно, получается спонтанно. И мой авангардизм тоже не был таким надуманным заранее, понимаете, с уклоном в эту сторону. Просто, вероятно, так шло развитие моего письма. Я помню, что особенно резким таким переходом для меня был 1963 год. Именно в том году я приблизился больше всего к тому, что называется авангардом. Как вы это понимаете - условно, конечно.
Тогда был такой острый момент в жизни молодой генерации советских артистов и писателей. Это была такая массированная атака партии на молодое искусство. Она началась с выставки модернистов и авангардистов в Манеже. И потом Никита Сергеевич явился туда со своей камарильей, устроил разнос и хулиганил очень безобразно, кричал: "Мы вас сотрем в порошок". С этого и пошло. В 1963 году я и Андрей Вознесенский оказались выволоченными на трибуну перед лицом всесоюзного актива и имея за спиной все Политбюро и Никиту, размахивавшего кулаками и угрожавшего... Довольно неприятное, довольно острое, я бы сказал, ощущение, похожее...
ДГ. На Колизей римский?
ВА. Отчасти на Колизей, отчасти на лавину, которая уходит из-под ног, когда и альпинизмом занимаешься, и вдруг у тебя начинает скользить, из-под ног уходит снег, и ты чувствуешь, что ты уже не остановишь ничего, вот и сам туда сваливаешься. Вот в тот момент я понял, что мы живем в совершенно каком-то абсурдном мире и что действительность так абсурдна, что, употребляя метод абсурдизации и сюрреализм, писатель не вносит абсурд в свою литературу, а наоборот, этим методом он как бы пытается гармонизировать разваливающуюся, как помойная яма, действительность, эту мусорную кучу. Вот тогда-то я и начал писать свои первые такие чисто авангардные вещи для театра. Первая моя авангардная вещь - пьеса "Всегда в продаже", поставленная "Современником". Я бы не сказал, что я сейчас ревностно следую линии, я бы сказал, что сейчас несколько отхожу от такого авангардного метода.
События 1963 года, эту расправу с молодым искусством, я отразил в пьесе "Поцелуй, оркестр, рыба, колбаса". Там действие как бы происходит в Латинской Америке, в неназванной стране, где царствует хунта. В общем, там отражены события, дискуссии и атмосфера вот той атаки на искусство. И как ни странно или смешно, эта пьеса чуть не была поставлена в Москве, в театре Ленинского Комсомола. Но все-таки она не была поставлена.
ДГ. Вы пишете, что в конце 60-х годов вы сменили молодежную тему на тему тотальной сатиры. Но герои большинства ваших рассказов были молодыми людьми, и читатели ваши - молодежь. Теперь вам 50 лет, кажется, да?
ВА. Да, вот через месяц. Вы знаете, молодость безобразно затянулась, я бы сказал, и не только у меня, но и у нашего поколения писателей... Нас считали официально молодыми в советской литературе чуть ли не до 45 лет. Мы числились все время молодыми. И мой герой старел, и мой читатель старел, и в последней, скажем, вещи "В поисках жанра" мой герой - это человек моего возраста. Очень часто критики, а чаще читатель, совершенно идентифицируют меня, автора, и героя, как будто это одно лицо. Но это абсолютно не так, это неверно, хотя очень много биографического, очень много личного вкладываю в героя, но тем не менее это все-таки герой, это вымысел, и тут уже эти проблемы среднего возраста появляются, появляется ностальгия, чего не было у молодых героев, появляется что-то такое в общем уже тревожное, я бы сказал, вегетативно-дистонический фон, типичный для среднего возраста. Но в "Бумажном пейзаже" я опять отошел от этого планомерного старения, и мой герой уже значительно моложе меня. Это 30-летний человек, а действие происходит в 1973 году в Москве и завершается в Нью-Йорке через 10 лет. Я именно писал о людях, сознательно писал не о себе, о людях другого поколения и другой среды.
ДГ. И вы не собираетесь переходить на нерусскую тематику?
ВА. Я думаю об этом, но, так или иначе, я связан с Россией, с русской темой. У меня уже завершен другой роман, он лежит в черновике. Он еще очень тесно связан с Москвой, с событиями последних лет моей жизни, с альманахом "Метрополь". А потом, я думаю, буду писать книгу с американским фоном, то есть тут даже трудно сказать, что будет фоном. Там будет русский герой, живущий сейчас в Америке, с уходом в далекое-далекое прошлое, понимаете? Это значит уйти к истокам того пути, который привел на эти берега, понимаете? Это же все не просто так произошло, не просто так вдруг собрались несколько десятков тысяч людей, интеллигенция, я имею в виду, я не говорю обо всех этих трехстах тысячах эмигрантов, а о нескольких десятках тысяч людей, которые собрались и покинули Россию.
ДГ. В предисловии к "Золотой нашей железке" вы называете 60-е годы "десятилетием советского донкихотства". Что это значит?
ВА. Это значит, что в течение именно этого десятилетия, пожалуй, общество, литература были охвачены иллюзиями, и казалось, что можно преодолеть мрачное прошлое сталинизма, можно продвинуться как-то вперед, что можно сделать шаг в сторону либерализации, в сторону более счастливой, более свободной жизни.
ДГ. Вот именно тогда ваша мать писала "Крутой маршрут".
ВА. Да, она написала книгу в начале 60-х годов и предложила воспоминания "Новому миру". Журнал фактически принял вещь к публикации...
ДГ. Твардовский?
ВА. Нет, Твардовский как раз зарубил. Вся редколлегия приняла, а Твардовский зарубил. У него довольно узкие взгляды были, ограниченные... Насколько я знаю, его реакция была такова: "Жертвы, о которых она пишет, к привилегированному классу принадлежали. Именно крестьян терзали, и о крестьянах надо писать". Как будто только крестьяне были жертвами этой власти. Это неверно. Я бы сказал, что интеллигенция как раз была самой первой жертвой.
ДГ. Расскажите о критике, которой подверглись "Звездный билет", "Апельсины из Марокко" и "Затоваренная бочкотара"...
ВА. Простите, но вы назвали в одном ряду несколько разных вещей. Я бы поставил в один ряд три книги на молодежную тему: "Апельсины из Марокко", "Звездный билет" и "Пора, мой друг, пора!". Некоторые критики даже говорили, что это в принципе одна и та же книга, с одним героем, как-то изменяющимся.
Это был целенаправленный удар по комсомольской, партийной критике. И они почувствовали опасность, якобы исходящую от этого нового поколения героев. Они искали прямого отражения этого героя в жизни, и они, видимо, находили его. И была какая-то такая, я бы сказал, социально-политическая критика.
Что касается "Бочкотары", которую вы назвали, то это все-таки сюрреалистическая вещь. Они как-то растерялись, они ее не поняли совсем. И критика была совершенно идиотская. Они не могли понять, против чего же он тут. Они уже хорошо знали, что я всегда против чего-то, и не ждали от меня хорошего. Но вот против чего конкретно - совершенно непонятно.
Я вам расскажу анекдотический эпизод с "Бочкотарой". Был такой критик он и сейчас, по-моему, работает в ЦК - по фамилии Оганян или Оганов. Он, кажется, писал под псевдонимом Оганов, но на самом деле он Оганян, преотвратительнейшая личность. И он написал в "Комсомольской правде" огромную разгромную статью на "Бочкотару". Я ничего другого не ждал от них, но потом кто-то из моих друзей сказал: "Посмотри, что он тебе шьет". Я сначала ничего такого не заметил, но мне показали, что он мне "шил" прямо-таки контрреволюцию...
Вот что там было: герои книги подъезжают к станции Коряжск, и на башне этой станции фигуры пограничников, доярки, шахтера и так далее. И там есть электрические часы, и на них время показывает 19.07, а в тексте сказано: "Через десять минут должен прийти поезд, поезд пришел ровно через десять минут, но никто на него не сел. Поезд ушел и растворился в каком-то пространстве". И опять-таки я ничего не понимаю. Мой друг говорит мне: "А ты сложи эти цифры - 19.07 и 10, и получится, что поезд ушел в 1917 и никто не сел на Поезд Революции". Вот в чем дело, до меня это не дошло. Это по Фрейду, между прочим, фрейдовская теория тут, видимо, присутствует в отношении этого критика.
ДГ. Насчет формы ваших произведений. Я уже упоминал о Юрьенене. Пишут, что "Ожог" довольно оптимистический роман и реакция властей объясняется тем, что роман не устраивал их по форме скорее, чем по содержанию.
ВА. Ну, не совсем, не совсем. В последние годы у меня были, конечно, большие трения именно из-за формы с официальными властями, потому что у нас установились к тому времени стандарты "деревенской прозы". Вы знаете, она навязывалась, и, когда были напечатаны "Поиски жанра", книга вызвала маленькую бурю. Мне молодые писатели из провинции писали, что "мы вдруг поняли, что можно писать иначе, чем Абрамов там или Астафьев, понимаете? Нам говорили, что просто нельзя так делать, что это уже все чуждое". Так что проблемы формы были всегда. Вот, скажем, пьесы мои, они такие зашифрованные, что их можно было ставить как-то, но форма неприемлемая - не советская и не народная. Что же касается "Ожога", то тут совсем особое дело. Конечно, он очень модернистский, очень сюрреалистический. Но он вызвал реакцию со стороны КГБ, я был предупрежден официально, и не по форме, а по содержанию.