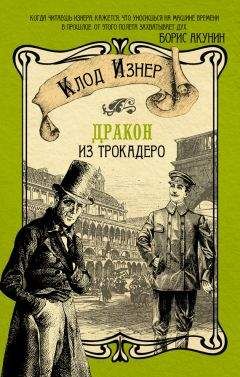Вера Игнатьевна и Иван Дмитриевич могли часами говорить о будущем советской скульптуры. О том, что в ней должно быть принципиально новым, о том, какие традиции, порой забытые, следовало бы возродить. Оба считали, что монохромность обедняет современную скульптуру, вспоминали разноцветную керамику итальянского Ренессанса, раскрашенную скульптуру этрусков, сделанные из мрамора, слоновой кости и листового золота статуи олимпийского Зевса и парфенонской Афины. «Мы все еще сидим на однообразном, условном цвете нашей скульптуры, — волновалась Мухина. — Лицо, волосы, одежда — все подается в одном материальном и цветовом решении. Правильно ли это?.. Мы забыли, что греки раскрашивали мраморы, что их скульптура была радостна». И, дополняя ее мысли, Шадр рассказывал о национальной основе цветности в русском искусстве, о раскрашенной деревянной скульптуре, которую он встречал в уральских северных церквах; в те дни он переписывался с Н. Н. Серебренниковым, описывавшим ему экспедиции сотрудников Пермской художественной галереи в Чердынь, Лысьву, Усолье, Большую Кочу, — на Урале собиралась превосходная коллекция народной деревянной скульптуры, «пермских богов». Эта работа казалась Шадру такой важной, что он решил сделать галерее личный подарок, послал отлив своего «Красноармейца», скульптуры, делавшейся по заказу Гознака и воспроизводившейся на первых советских деньгах. Впоследствии, вспоминая живописных «пермских богов», Шадр позолотит свои композиции «Освобожденный Восток» и «Год 1919».
Пылкий, искренний, очень доброжелательный, Иван Дмитриевич был превосходным собеседником и «душой общества» на вечерах ОРС. Он прекрасно пел (даже собирался в юности стать оперным артистом), декламировал, смешил всех, изображая, в каком положении и с какой стороны лучше смотреть ту или другую скульптуру, охотно рассказывал смешные случаи из своей жизни. Больше всего любил рассказывать о своем юношеском визите в Куоккалу к И. Е. Репину: ехал, втайне надеясь, что Репин отнесется к нему, как когда-то Державин отнесся к Пушкину, всю дорогу твердил стихи: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Но благословения не последовало: пересмотрев рисунки, Репин захлопнул папку и сказал холодно: «Через пятнадцать минут отправляется последний поезд в Петербург. Вам надо тотчас идти. Или вы опоздаете». И Шадр с юмором добавлял: «А по молодости лет есть так хотелось! А на свежем-то воздухе вздремнуть было бы так сладко!»
Изящный, веселый, артистичный Шадр умел работать не щадя себя, сутками не выходя из мастерской. «Натурную вещь сделать не трудно, — говорил он. — Трудно, не поступаясь реальностью, создать символ. Иначе же подлинной глубинной правды не выразишь, не будет в работе нужной содержательности». «В романтической скульптуре не может быть обыденности, — утверждала и Мухина. — Идеализация не противоречит действительности, она просто квинтэссенция всего прекрасного, что есть в жизни и к чему стремится человек».
Орсовцы работали в трудных условиях: материалы стоили дорого, да и достать их было нелегко, мастерскими были обеспечены немногие. Лебедева работала в сыром, плохо освещенном помещении; Шадр — в Гознаке, на пятом этаже, поднять туда материалы или спустить скульптуру каждый раз было проблемой, которая еще усугублялась тем, что на территорию Гознака без пропуска войти было нельзя; Чайков и Ефимов, преподававшие во Вхутемасе, пользовались учебными мастерскими; некоторые скульпторы занимали неработающие торговые помещения, через какое-то время их выселяли — так случилось с Фрих-Харом, со Слонимом; иные ухитрялись лепить в заколоченных подъездах.
Пришлось помучиться и Вере Игнатьевне. Мастерскую Веры Поповой удержать не удалось — «домком запросил несуразную цену»; после долгих поисков нашли террасу в доме на Тверском бульваре. «…Нечто вроде зимнего сада, стеклянный фонарь. Я наняла это помещение, Алексей Андреевич „выкопал“ чугунную печку, поставили буржуйку».
Перед открытием первой выставки (вернисаж состоялся в Историческом музее 28 марта 1926 года) орсовцы изрядно переволновались. В экспозиции одна скульптура, не покажется ли скучно, однообразно? Сумеют ли зрители одновременно воспринять классически-традиционные произведения Златовратского и Кепинова, конструктивистского «электрификатора» Чайкова, у которого мрамор оказывался в неожиданном соседстве с латунью и железом, и несколько импрессионистскую скульптуру Эрьзи, напоминающую, по словам одного из критиков, «бурные мотивы Врубеля»? Почувствуют ли стремительность «Пламени революции» и спокойствие «Юлии»?
Но страхи были напрасны. Успех выставки превзошел все ожидания. «Обычно скульптура распылена по различным живописным объединениям, и зритель воспринимает произведения мимоходом, как нечто привходящее. Настоящая выставка, объединяющая значительное ядро скульпторов, является, в сущности, первым смотром скульптурных сил, — было напечатано в „Правде“. — …В области скульптуры идет серьезная работа, борьба за качество и за овладение материалом».
Ф. Рогинская в «Правде» констатировала факты, Я. Тугенхольд («изумительный человек — чрезвычайно тонкий, очень культурный», по словам Мухиной) в «Известиях ВЦИК» пытался исторически осмыслить их. Он писал: «Впервые в России революционные годы выдвинули проблему скульптуры во всей ее принципиальной значимости, впервые создали социальную атмосферу, благоприятную для расцвета скульптуры. Если исчез заказчик на частный бюст, то зато сама новая государственность, устами предсовнаркома, провозгласила скульптуру делом общественной важности… Идея В. И. Ленина пустила глубокие корпи по всей стране, и десятки памятников, хотя бы и невысокого качества, почти „самотеком“ возникающие то здесь, то там, свидетельствуют о пробудившейся громадной потребности масс в скульптуре портретной и декоративной. Вот почему курс на скульптуру, углубление скульптурного мастерства, поднятие пластического образования художественной молодежи стали для нас задачами, диктуемыми самой жизнью. И вот почему именно в этом плане следует горячо приветствовать как нарождение у нас Общества русских скульпторов, так и его гражданское мужество устроить самодеятельную выставку своих работ. Эта эмансипация скульптуры внушала нам, правда, некоторые опасения, но… действительность рассеяла их. Открывшаяся в Историческом музее выставка — своего рода событие. Это урожай неожиданный».
«Юлия» и «Пламя революции» считались одними из самых ярких и запоминающихся произведений выставки. Для Веры Игнатьевны это одобрение было очень важно — в создание «Юлии» она вложила всю себя. После завершения ее долго чувствовала себя выжатой, опустошенной. Казалось, — все, больше уже ничего не сможет сделать. А потом снова «открылись шлюзы», начали работать мысль и воображение.
Сколько времени работала над скульптурой? Можно ли ответить на это? Чехов говорил: «Пишите, пока не сломаются пальцы». Этому завету и следовала художница. Десятки раз переделывала рисунки, эскизы, мяла уже казавшееся завершенным, начинала сначала, «латала, штопала», опять мяла и опять делала заново. И все-таки самым трудным временем для нее было не это, а предшествующее. Когда замысел только зрел в ее душе и она пыталась осознать его. Когда, что бы ни делала и о чем бы ни говорила, постоянно подспудно думала об одном — о будущей работе. Это бывало так мучительно («когда начинаю делать большую статую, палец покажут — реву»), что потом чуть ли не отдыхом казались напряженные, многочасовые, многодневные поиски форм в глине.
На второй выставке ОРС Мухина экспонировала женский торс, вырезанный из дерева, и небольшую, очень экспрессивную фигуру «Ветер». И опять к ней пришел успех: на следующий год «Ветер», переведенный из гипса в бронзу, был включен в состав Международной выставки в Венеции.
В этой работе Мухиной удалось превосходно передать напряжение: плечи, торс, согнутые круглые колени женщины — все налито энергией, все противостоит порыву бури. «Порыв ветра — сзади, — рассказывала Вера Игнатьевна. — Фигура стоит, желая устоять, расставив ноги, спиной к ветру, волосы заносит вперед, руки протянуты вверх и вперед».
Художники высоко оценили «Ветер». Но сама Вера Игнатьевна, видимо, была чем-то неудовлетворена: не случайно же она на следующий год наполовину повторила, наполовину переработала эту композицию в «Торсе».
Вырезанный в цельном куске платана «Торс» не имеет ни глиняного, ни гипсового эскиза. Обычно Мухина избегала работать прямо в материале — ей не была свойственна чрезмерная уверенность в себе: ту же «Юлию», перед тем как перевести в дерево, делала в гипсе. Но тут гипс был не нужен — резала с оглядкой на «Ветер». Сохранив лучшее, что в нем было, — удивительный и сложный сплав красоты и силы, радости жизни и уверенности в ней, — лишила фигуру жанровых признаков, увела ее из категории обыденного.