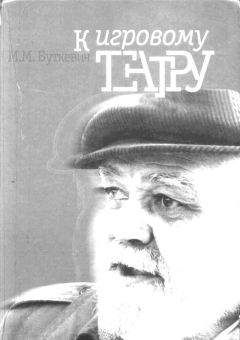В пятьдесят третьем умер Сталин, и в моем мире, как, вероятно, и в вашем, возникли слабенькие веяния освобожденья. Я написал письмо по поводу своих родителей в Прохладненские органы госбезопасности. Ответа, естественно, не получил никакого.
Но в самом начале пятьдесят четвертого года меня вызвал директор института (я работал тогда в ташкентском НИИ архитектуры под названием "Узгоспроект" в должности младшего техника-планировщика). Всесильный босс приглашает к себе ничтожного клерка — в этом было что-то неорганичное и беспокоящее.
Рыжий великан и сибарит товарищ Колбин торжественно восседал в своем кабинете, как Зевс на Олимпе, но вид у него был на этот раз не очень уверенный. Мы поздоровались. Он предложил мне сесть.
Почему ты не написал в анкете, что твои родители — враги народа? Я растерялся:
А как вы об этом узнали?
Как, как! Полчаса назад мне позвонили из КГБ и приказали тебя убрать из института, — он словно бы извинялся. — Ты же сам понимаешь, учреждение у нас секретное, закрытое: карты, геодезия, объекты и все прочее...
Понимаю.
Но это еще не все. Они велели прислать тебя к ним сейчас же. Я разрешаю тебе уйти с работы. В отделе никому ничего не говори. Вот адрес, — и он пододвинул мне исписанный клочок бумаги.
"Они" находились в самом центре города — на Театральной площади прямо напротив Оперы. Я вошел в неприметную дверь между парикмахерской и кондитерским магазином и объяснил вооруженному вахтеру, в чем дело. Вахтер выписал мне пропуск и объяснил, как пройти в кабинет номер 2.
Кабинет оказался крохотной тесной комнатенкой, в которой едва помещались стол и два стула. За столом я увидел приличного молодого человека в сером костюме с невыразительными, но вполне доброжелательными глазами. Поздоровались. Познакомились. Он усадил меня визави.
— Мне о вас только что звонил Колбин. Деловой руководитель. Это всегда приятно. Итак, вы интересовались судьбой своих родителей. Мы получили ответ на ваш запрос.
А почему ответ пришел не мне лично, а вам?
Так положено. Хотите познакомиться?
Я кивнул. Он полез в ящик стола, достал папочку и вытащил оттуда один лист. Я протянул руку.
— Сначала заполните расписку о неразглашении.
Из папки был вытащен соответствующий бланк, в котором типографским способом было отпечатано обязательство о том, что я, такой-то, поставлен в известность о требовании никогда и никому не сообщать ни о самом факте вызова в органы, ни о том, что мне здесь будет сообщено, ни о том, что я согласен выполнить данное требование. Дальше шли ссылки на статьи кодекса и размеры наказания.
Я заполнил бланк и расписался. Мы обменялись бумажками.
Передо мной лежал лист со штампом и фирмой:
"На запрос гражданина Буткевича М. М. о своих родителях сообщаем, что мать гр. Буткевича М. М. — Буткевич Мария Рафаиловна, 1896 года рождения была расстреляна по приговору суда как враг народа, 19.12.1937 года.
Что касается отца гр. Буткевича М. М. — Жидкова Михаила Алексеевича, 1895 г. р., то нам известно только, что он был расстрелян в том же году. О месте и дате приведения приговора в исполнение в Прохладненском ЮВД точных сведений не имеется".
Я могу взять эту бумагу себе?
Ни в коем случае. Это останется у нас. И помните — вы подписали обязательство молчать обо всем, что узнали.
И это все?
Все. Впрочем, позвольте дать вам два добрых, но, подчеркиваю, неофициальных совета. Первое: немедленно уйдите с секретной работы — подайте заявление по собственному желанию. Второе: уезжайте куда-нибудь подальше...
Куда?
Ну, уж этого я не знаю. Куда хотите. Кстати, о моих советах тоже не говорите никому. Всего наилучшего.
Выйдя от благожелательного гебиста, я вздохнул полной грудью: все-таки легко отделался. Вокруг меня шумела южная столица, похожая на восточный базар, а в воздухе уже повеивало ранней весной.
Я вернулся на работу и подал заявление об уходе из института. К моему удивлению, оформление прошло легко и быстро: секретарша в пять минут напечатала приказ, бухгалтерия моментально произвела расчет и выдала наличными двухнедельное выходное пособие, отдел кадров без традиционных проволочек вручил мне мою полностью оформленную трудовую книжку. Это бьиш чудеса в решете — скоропалительное увольнение для книги рекордов Гиннеса. Через час я уже прощался с друзьями-сотрудниками по отделу районной планировки. Никто ничего не понимал. А, может быть, делали вид, что не понимают.
Дней десять я носился по букинистическим магазинам, распродавал свою отборную библиотеку — на что-то ведь нужно было просуществовать до отъезда. Потом я забрал документы из вечерней школы, где заканчивал девятый класс, и поступил в республиканский узбекский экстернат; там, сравнительно прилично, я сдал экзамены на аттестат зрелости. Ничто больше не удерживало меня в Ташкенте, я был полностью готов выполнить второй совет своего доброжелателя из КГБ.
В начале лета я уже собирал в дорогу свои немногочисленные вещи и подсчитывал свои скромные соцнакопления. И тут мой родной узгоспроектовский отдел оказался на недосягаемой высоте. Они за счет профкома купили для меня приличный темно-синий шевиотовый костюм и темно-синий же полушерстяной плащ, собрали по всему институту довольно приличную по тем временам сумму денег и — по блату — достали мне билет на скорый поезд номер 13 "Ташкент — Москва", в мягкий вагон на 13-е нижнее место и на 13-е число июня м-ца. Трое самых смелых моих друзей пришли даже провожать меня на вокзал. Все складывалось прекрасно: меня любили, я ехал в любимую Россию обучаться своей любимой профессии.
В Москве при поступлении в театральный институт в анкете абитуриента, заполняя графу о папе и маме, привычной рукою я записал привычные слова: "Родителей не помню. Воспитывался в детдоме". Все было по-прежнему. Ничего не изменилось. Абсолютно ничего.
XV
Моя мать любила меня бесконечно. Но и она не всегда и не до конца догадывалась о том, что клубилось порою в моей душе. Она невольно идеализировала меня, подгоняла под извечный стандарт дитяти. Она никогда не допускала теней в мой облик, она прогоняла их прочь, считая чем-то наносным и необязательным. Она, как и многие другие родители, как почти все взрослые, беспечно упрощала и спрямляла мою внутреннюю жизнь, так как была уверена, что некоторых вещей ребенок не понимает и понять не в состоянии. А ребенок понимал все.
Последняя мысль, к сожалению, и сегодня далеко не бесспорна. Я предвижу, что меня могут упрекнуть, да, вероятно, и будут упрекать в том, будто бы я, описывая себя в детстве, нагружаю образ ребенка своей теперешней мудростью, своей прозорливостью задним числом, своей абсолютно взрослой психологией. Но, поверьте мне, это не так — главной целью было для меня наиболее точное и адекватное описание переживаний, размышлений и прозрений ребенка, именно ребенка. Я обращаюсь ко всем так называемым взрослым людям: не упрощайте духов!гую жизнь детей, даже своих собственных.
"Не возри на внешняя моя, но вонми внутренняя моя" ("Моление Даниила Заточника". Из письма боярину — русский XII век)
"Разве не в нашей власти в любой степени отождествлять себя с подобными нам существами? Мы ведь способны усваивать себе их нужды, их выгоды, переноситься в их чувства так, что мы, наконец, начинаем жить только для них и чувствовать только через них. Это без сомнения верно. Как бы вы ни называли эту нашу удивительную способность сливаться с тем, что происходит вокруг нас, — симпатией, любовью, состраданием,— она во всяком случае присуща нашей природе. Мы при желании можем до такой степени сродниться с чужим нравственным миром, что все совершающееся в нем и нам известное мы будем переживать как совершающееся с нами; более того, если даже мировые события нас не очень заботят, довольно одной уже обшей, но глубокой мысли о делах других людей, одного только внутреннего сознания нашей действительной связи с человечеством, чтобы заставить наше сердце сильнее биться над судьбою всего человеческого рода, а все наши мысли и все наши поступки сливать с мыслями и поступками всех людей в одно созвучное целое. Воспитывая это замечательное свойство нашей природы, все более и более развивая его в душе, мы достигнем таких высот, с которых целиком раскроется перед нами остальная часть всего предстоящего нам пути; и благо тем из смертных, кто, раз поднявшись на эту высоту, сумеет на ней удержаться, а не низринется вновь туда, откуда началось его восхождение. Все существование наше до тех пор было непрерывным колебанием между жизнью и смертью, длительной агонией; тут началась настоящая жизнь, с этого часа от нас одних зависит идти по пути правды и добра, ибо с этой поры закон духовного мира перестал быть для нас непроницаемой тайной". (П. Я. Чаадаев. Из "Философического письма" — русский XIX век)