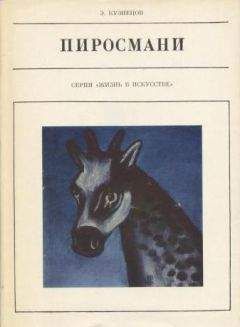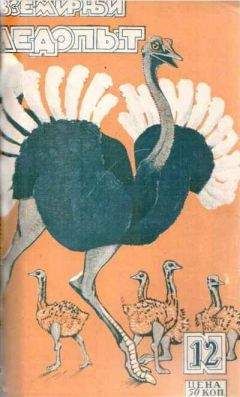К этой системе он пришел постепенно.
В ранних вещах он еще перекрывал тоном всю клеенку. Здесь художник, найдя удобный материал, еще не освоил его удивительные возможности. Правда, он и позже не раз перекрывал клеенку целиком, но уже не наглухо, а используя те колебания тона, которые сами собой возникали от неравномерности слоя краски, и ту холодноватость цвета, которая возбуждается лежащим под краской черным грунтом. Такова картина «Сбор винограда». Почти все ее обширное пространство, кроме кусочка неба с летящими птицами, то густо, то жидко перекрыто зеленой краской, неравномерно размешанной с черной. Эта зеленая поверхность, написанная широко и размашисто, образует фон, уже поверх которого художник, работая той же зеленой, черной, белой и красной, смешивая их в разной пропорции, пишет фигуры людей, бочки, кувшины, быков, квеври (громадные глиняные кувшины, зарываемые в землю для хранения вина), деревья с яблоками, виноградные кусты, шалаш, арбу — и все остальное.
Продолжая работать на клеенке, все сильнее проникаясь обаянием ее черной маслянисто-матовой поверхности, Пиросманашвили стал использовать и саму эту поверхность. Сначала — как живописный фон, на котором расположено изображение: черное вырывает предметы из конкретной среды, делает их самодовлеющими, позволяет их размещать, не заботясь о привычных связях, соотношениях, а подчиняясь исключительно живописной убедительности. Большинство картин, использующих черное как фон, — натюрморты. Здесь черный цвет позволяет смещать привычные масштабы вещей, делает яркими и сочными на самом деле очень сдержанные краски, придает всему удивительную рельефность, плотность, воинствующую материальность. Пиросманашвили с изумительной тактичностью использует и загружает этот черный фон. Предметы располагаются свободно, как бы стремясь заполнить плоскость картины, цветовые пятна уравновешены, чтобы и не вытеснить черное, обнимающее их, но чтобы и черное не победило, чтобы предметы не «провалились» в него.
Однако и этого оказалось мало Пиросманашвили. Во многих и наиболее характерных для него работах он делает клеенку — лишь местами слегка или даже вовсе не прописанную краской — не только фоном, но даже частью самого изображения. Так он исполнил великолепного «Кабана», где весь фон покрыл белилами, а оставшийся черный силуэт кое-где тронул кистью.
Здесь художник пришел к своей классической манере, к своеобразному письму «навыворот» — светлым по темному, вместо темного по светлому, как делается обычно, — не употребляя черной краски, а вместо того оперируя оставляемыми кое-где кусками черной клеенки. «Навыворот» он пишет даже лицо — прописывая рельефно лоб, скулы, щеки и прочее и оставляя чистой клеенку в бровях, в части глаз. В некоторых поздних работах, отмеченных повышенной экспрессией, он оставляет черной всю глазницу вместе с бровью и частью тени, очерчивающей крылья носа, и в глубине этого черного пятна бросает сияющий мазок белилами («блеск глаз» вместо «глаз» — можно было бы сказать, перефразируя Делакруа).
Прием этот, нет сомнения, возник стихийно, и прежде всего из все той же экономии — времени, красок, усилий, непрерывно подгонявшей Пиросманашвили. Но, как всякий большой талант, он из ограничения, подрезающего свободу среднему художнику, извлек новую эстетическую свободу, новую возможность. И с другой стороны, наложил на себя новое бремя: как правило, незаписанные куски грунта рвут живописную плоскость, оказываются чужеродными, и нужны незаурядное живописное мастерство и смелость, чтобы сообщить им материальность, уравновесить их с местами, проработанными краской, да еще порой очень плотно. Пиросманашвили удается это чудо, и, глядя на его «Кабана» — на эту клеенку, предстающую во всей своей подлинности, плоскостности, с характерными пупырышками фактуры и лишь кое-где слегка тронутую кистью, — трудно отказаться от ощущения, что перед тобой плотная живопись, передающая объемность и массивность зверя.
Черная клеенка не только подсказала Пиросманашвили его оригинальную манеру (которая позднее стала предметом подражания и освоения), но и продлила жизнь его живописи. В самом деле, его картины — те, которые попали хотя бы в сравнительно нормальные условия, которые не были согнуты по нескольку раз, не были брошены у порога — вытирать ноги, не были закинуты в мокрый подвал, не были скручены трубкой, не были мяты, ломаны, резаны, топтаны, — все эти картины удивляют отличной сохранностью, прочностью красочного слоя и чистотой цвета и явно выигрывают рядом со многими своими ровесниками, картинами конца XIX — начала XX века, когда под напором модных новинок пошатнулась традиционная технология живописи. Это неудивительно. Клееночная масса близка по химическому составу к масляным краскам, близки и их коэффициенты расширения и сжатия от перемен в температуре и влажности воздуха. Поэтому кракелюры — мелкие трещинки, этот бич старой живописи — на картинах Пиросманашвили появлялись только от какого-нибудь механического воздействия.
Тому была и другая причина — сами краски, употреблявшиеся художником. Распространенное мнение о том, что он писал грубыми самодельными красками, удобно согласуется со стереотипом «бедный художник». Оно небеспочвенно. Действительно, некоторые его работы писаны самодельными красками: он покупал пигменты, сухие краски в порошках, и, как маляр, разводил их олифой в банках. Но таких картин немного, и приходятся они, как правило, на трудные военные годы.
Основная же масса произведений написана масляными красками фабричного производства и высокого качества (как отечественными, так и зарубежными — английскими). Эти превосходные краски в сочетании с благоприятными свойствами клеенки, а также со своеобразной техникой письма и дали его картинам прекрасную сохранность.
Скорее всего, эти превосходные краски он покупал не в фешенебельном магазине «Blanc et Noir» на Головинском проспекте, возле Артистического общества, где кроме того торговали статуэтками, рамками, расписными шкатулками и прочей художественной дребеденью, но в скромном магазинчике Геккелера на Вельяминовской, под городской думой, куда принято было ходить настоящим профессионалам. Именно здесь увидел его весной 1915 года совсем тогда юный Давид Цицишвили — и запомнил, не столько по внешности, ставшей с тех пор хрестоматийной (мягкая шляпа, темная косоворотка, пиджак и брюки с пузырями на коленях), сколько по фразе, брошенной потом хозяином: «Вот ведь как удивительно — простой маляр, а всегда покупает самые лучшие краски».
Палитра Пиросманашвили не составляет секрета: кобальт, ультрамарин, окись хрома, светлая охра, кадмий желтый, стронциановая желтая, кадмий оранжевый, кадмий красный, английская красная, умбра, свинцовые или цинковые белила.
Эту палитру следовало бы назвать бедной, но вовсе не из-за качества красок, а из-за ограниченности их числа. В особенности если вспомнить, что ни в одной из картин Пиросманашвили не употреблял сразу все перечисленные краски или хотя бы большую их часть; ему хватало только нескольких: четырех, трех, двух.
В картине «Бездетный миллионер и бедная с детьми» были использованы только четыре краски. В ряде вещей Пиросманашвили хватало и трех. Так написан «Пасхальный ягненок»: белила, желтая, английская красная. Сам ягненок — одни белила в сочетании просвечивающих тонких слоев (звучащих холодно) и плотных, корпусных (более теплых). Желтая употреблена только для изображения травы. Все остальное — яйца, пасха, ленточка на шее ягненка — написано смешением белил и английской красной. «Мальчик на осле» — один из шедевров Пиросманашвили, к сожалению, известный не так широко, как он того заслуживает, — написан черной, белилами и все той же английской красной по коричневому грунту.
В других картинах Пиросманашвили работает даже двумя красками — все те же белила и еще какая-нибудь одна, слегка подцвечивающая краска. В мировой живописи трудно отыскать примеры подобного самоограничения, кроме разве что четырех «Евангелистов» Натальи Гончаровой, в каждом из которых она употребляет какую-то одну краску в соединении с черной и белой.
Конечно, дело не только в числе красок самом по себе. Вполне возможно, что временами скупость Пиросманашвили вызывалась совершенно прозаическими причинами, и он был принужден употреблять три краски там, где предпочел бы пять или шесть. Дело в другом — в том, чего он с их помощью добивался.
К сожалению, любители живописи (и даже поклонники Пиросманашвили) неточно представляют себе его колорит, судя о нем в основном не по оригиналам, а по репродукциям, в которых его тонкая живопись оставляет впечатление сильной, красивой, но грубовато-упрощенной и, в конечном итоге, искажается даже больше, чем многоцветная живопись Моне или Писсарро.