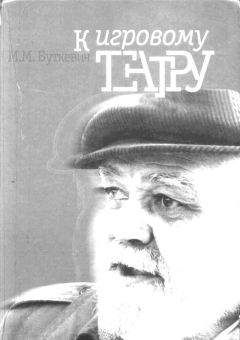Я думал, что все это само собой разумеется и будет абсолютно понятно из этюда.
Оказалось — нет: не поняли, поэтому не включились и не завелись.
Дорогие мои, уважаемые и неуважаемые, любимые и нелюбимые режиссеры, новаторы и консерваторы, художники и ремесленники, талантливые и не очень талантливые, — умоляю вас, не повторяйте моих ошибок! Любыми способами и средствами — в афишах, программках, в комментариях по радио перед началом спектакля в фойе, в ваших собственных объяснениях со зрителями перед поднятием занавеса, в первых репликах действующих лиц, в лирических апартах актеров, открывающих театральное представление, — как хотите, как вам угодно, но сообщайте пришедшей к вам публике правила предстоящей игры, задуманной вами, вводите ее в курс дела.
На раннем этапе поисков игрового театра я не понимал, в чем тут фокус, в чем секрет этого необъяснимого, но безотказного воздействия игровых структур, и поэтому мой взгляд был взглядом профана. Теперь, после открытия своих игровых ситуаций, я понимаю все и могу напридумывать и наделать сотни таких вот неотразимых безделушек; более того, я могу построить целый спектакль такой же притягательной силы, — и все благодаря спортивной игровой ситуации. Теперь это предстает передо мной простым и ясным. Теперь это для меня — "ноу проблем", но на это ушла целая жизнь.
"Ушла жизнь", "Уходит жизнь", "Проходит жизнь" — это наиболее распространенная, наиболее типичная идея реальной философии, такой, к примеру, как экзистенциализм. Экзистенциализм в театре и есть его спортивность, его дерзкий выход на границу жизни и смерти, наконец его вызов и выбор.
К. С. Станиславский давным давно сформулировал предмет искусства как "жизнь человеческого духа". Прибавим к этой гениальной формуле еще один оттенок, отнюдь не чуждый великому реформатору сцены: искусство вообще и искусство театра в частности — это всегда игра человеческого духа.
На протяжении всей долгой истории человечества то и дело всплывают на поверхность великие диалоги. Люди сходятся поговорить и поиграть, то есть посостязаться: кто-кого. И всегда это состязание философа и игрока. Платон и Диоген. Христос и Понтий Пилат. Шут и король. В России — юродивый и Царь. В великой русской литературе — Иван Карамазов и черт (плюс современный западный эквивалент — томасманновский Леверкюн и его сильно профанированный и пообтрепанный дьявол).
Игровой театр весь и всегда состоит из таких "диалогов": состязания мысли и чувства, состязания счастья и несчастья, жизни и смерти, бытия и небытия, состязания театра и жизни. Все это в результате сводится к одному — к состязанию посвященного и профана.
Качающаяся, зыбкая диалектика весов в таком состязании сложна и парадоксальна: победа в нем отнимает у нас радость и надежду, а поражение дарит нам свободу. В том числе я имею в виду творческую радость и творческую свободу.
Спортивность театра постепенно становится синонимом и средством его подлинности. Условные установки современной сцены, понимаемые как условность игры, скоро останутся единственным путем добывания неподдельного чувства.
В чем тут открытие? Раньше я (да и многие другие тоже) допускал сосуществование условности спектакля и правдивости чувств; была сочинена даже экстравагантная формула этой "пропорции" — чем условнее спектакль, тем безусловнее должны быть чувства актеров. Теперь открыта другая причинная связь и другая причинная зависимость: чтобы добиться подлинности переживания, нужно создать новую, дополнительную условность — условность о правилах игры.
В середине лета, поближе к концу, загораются в России леса и начинается звездопад: падают спелые яблоки, зрелые мысли и буйные головы обреченных.
Вот и сейчас, у меня, созревшая идея бесшумно чиркнула по темному небосклону сознания... и идея эта — мысль о состязательной концепции театра. Извините за финальную красивость.
Лекция седьмая. Иррациональность театральной игры
Седьмая игровая ситуация иррациональна: у нее нет нары, у нее нет имени, у нее нет ни четкой формы, ни определимого содержания. Она тут и там, но в то же время ее нет ни там, ни тут. Она в высшей степени виртуальна — одновременно и существует и не существует. Она есть и ее нет. Она — тайна. Как электрон. Как талант. Как Бог.
Как сам театр.
Значение седьмой ситуации чрезвычайно велико. Она заключает собою перечень членов нашей веселой компании игровых ситуаций. Заключает, но не завершает, не заканчивает, не мертвит, а, наоборот, делает нашу схему (а лучше сказать — структуру) игровых ситуаций более динамичной и жизненной, — вследствие своей несимметричности. Она — седьмая, то есть нечетная, лишняя, свободная и последняя.
И тут я вступаю в область ненаучных соображений, — я пытаюсь понять, пытаюсь хоть как-то мотивировать тот факт, что игровых ситуаций именно семь. И мне не остается ничего другого, как погрузиться в философию чисел, в символику цифр.
В сознании человека число связано с такими понятиями, как точность, объективность, прагматический расчет, с такими научными дисциплинами, как арифметика, математика, физика и химия. Но это только часть правды о числе. С того самого времени, когда человечество научилось считать, оно начало наделять некоторые числа мистическим и даже магическим значением. Кто из нас не боится тринадцатого числа? Кто не считает до трех, начиная то или иное предприятие? Кому цифра "пять" не кажется почему-то какой-то круглой и надежной, особенно производные от нее, такие как 50, 500 и т. д.? Но самое большое хождение среди так называемых магических чисел имеет, конечно, семерка. Мы натыкаемся на нее всюду, но наиболее часто в самых важных местах, в самых ключевых ситуациях: семь смертных грехов, семь добродетелей, семь чудес света, семь возрастов жизни; опускаемся в быт — и там то же самое: семь раз отмерь; семь дней недели; поворачиваемся к искусству, и что же? — семь цветов (семь красок), семь нот, семь строчек японской танка... семь, семь, семь... мистическое число.
А я всю жизнь увлекался магией чисел, ну если не магией, то скажем так — игрой чисел, игрой счета: я подсчитывал количество картин в пьесе, количество "положительных" и "отрицательных" действующих лиц, меня интересовало, сколько тут событий, сколько раз упоминается слово "вода" или выражение "как знать", даже сколько раз в реплике звучит звук "р" или звук "у"; я выискивал всюду "чет" и "нечет", триады, диады, "квадриги", "квинтеты" и "октавы"; более того, я не обделял вниманием просто наличие или отсутствие числа ("плюс-прием" или "минус-прием") — я искал смысл в результатах своих подсчетов — тайный смысл, скрытый в числах.
Это шло у меня от моих увлечений кибернетическими моделями и структурной поэтикой.
Вероятно, под влиянием этой привычки я приостановился в своих поисках игровых театральных ситуаций, замер в стойке, как охотничья собака, обнаруживая дичь. Стоп! — сказал я себе — Мистическое число! Пусть этих ситуаций будет семь — как семь нот, как семь дней недели, как семь смертных грехов. Или как семь дней творенья.
И оказался прав.
Сколько раз впоследствии я ни разговаривал со своими коллегами и учениками, никто из них не смог предложить мне восьмую ситуацию, отвечающую на вопрос, чем же играет актер на театре. Скорее всего, ее и нету, может быть, даже и не может существовать: как восьмого цвета или восьмого покрывала у танцующей Саломеи.
В отличие от предыдущих лекций, я читаю (или если хотите — пишу) эту лекцию без плана, она развивается сама собой — не как наметил я, а как ей самой хочется. Она вырастает у вас на глазах, как кристалл или коралловый риф. Она раскрывается и распускается, как цветок или почка. Она развивается из завязи, как плод яблони или человеческий зародыш. Органично. По внутренним своим законам, естественным и неостановимым. Я только стараюсь ей не мешать.
Она самоорганизуется, как чаемый мною спектакль приближающегося будущего театра.
Седьмая игровая ситуация неопределенна и неопределима, а я лишен иллюзий и претензий самонадеянного ума, считающего, что все можно познать и объяснить. Поэтому я только прислушиваюсь и присматриваюсь. С одной стороны. С другой стороны. С третьей, двадцатой или, может быть, тридцатой. Я жду. А вдруг из ее легких лепетов и слабых шевелений прояснится мне хоть чуть-чуть ее неуловимая таинственная суть?
Я прикидываю, примериваю, ворчу и прикладываю; я пытаюсь назвать ее имя: "глобальная игровая ситуация"? — нет; тогда "игровая ситуация тотального театра"? — тоже нет, оба этих определения бесспорно верны, но слишком уж они какие-то общие, — все равно, что лакея Павла или полового Петра назвать "человек" — никакой конкретности, и даже унизительно; "ситуация" "я — не я"? — верно, но не совсем ясно, — лучше будет "игра маски и лица", точнее — "игра снятием и надеванием маски" — неуклюже и неисчерпывающе, даже с пояснением это, мол, как ситуация детской игры в прятки, — откровение и прикровение, спрятался — высунулся, прикрылся — открылся, покривился — стал самим собой. Это уже намного ближе, но все-таки не то. Может быть, "объединение городового и скомороха"? Теплее. Во всяком случае становится яснее, что это ситуация сугубо профессиональная, — извечная ситуация homo ludens, человека играющего, точнее актера, — и ситуация достаточно амбивалентная. Надо же! То перелет, то недолет.