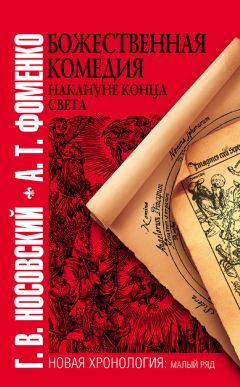Величие драматического искусства не в поверхностном следовании жизни, но в мистическом проникновении в глубины человеческой души, в освещении идущей там борьбы, в выражении высшего духовного напряжения человека, игрища страстей, в котором индивидуальное тождественно равно общечеловеческому, бытийному.
…Искусство, которого я жажду… — это борьба, но она происходит в глубинах души, и один из антагонистов не имеет земного облика и не говорит на языке смертных.
Трагическое искусство, страстное искусство, затопляющее плотины, которые разделяют людей, разрушающее обычные представления, воздействует на нас тем, что заставляет грезить, почти что ввергает нас в транс. Люди, действующие на сцене, как бы вырастают, и мы вдруг видим перед собой само человечество.
Йитса мало интересовали внешние, поверхностные конфликты персонажей-антагонистов, драма характеров и поступков — только конфликтное, дисгармоничное состояние человеческой души, кризисность духа времени.
Интерес Йитса к маскам театра Но, к сверхмарионетке Крэга (см. моего Шекспира) восходит к архетипическим представлениям, к глубинам бессознательного в психоанализе, к мистике транса и одновременно к освоению новых изобразительных приемов, усвоенных из мировой культуры.
Маска позволит мне заменить лицо какого-нибудь посредственного актера или то же самое лицо, но перекрашенное в соответствии с его вульгарной фантазией, прекрасным творением скульптора… Маска никогда не покажется всего лишь грязным лицом, и как близко ни подойти к ней, она все равно останется произведением искусства. В поэтической живописи и скульптуре лицо кажется тем благороднее, чем в нем меньше любопытства, оживленного внимания, всего того, что заключено в знаменитом понятии реалистов "жизненная энергия". Возможно даже, что полнотой бытия обладают только мертвые и что мы каким-то образом понимаем это, когда так неотрывно и с таким чувством смотрим на лицо сфинкса или Будды.
…Мы ничего не потеряем, сделав черты лица застывшими, потому что глубокое чувство выражается в движении всего тела.
Преломляя свои идеи обнажения души через образ любимой женщины и актрисы Мод Гонн, Йитс писал:
Ее лицо, подобно лицам греческих статуй, выказывало мало мысли — все ее тело казалось шедевром долгой мыслительной работы.
В. А. Ряполова:
Того же Йитс хотел и от актеров идеального театра, каким он мыслил его себе в 1916 г. Модель театра Но оказалась великолепной находкой, потому что дала возможность связать маску с выразительностью тела в движении. И снова Йитс не столько шел от теории, сколько вдохновлялся живыми впечатлениями. Он видел танцы театра Но в исполнении японских актеров: его поразило сочетание статуарности и мускульного напряжения, интенсивность ритма и его теснейшая связь с содержанием, мыслью. Именно эти качества, а не ориентальный колорит пластики стали образцом для Йитса, когда он начал писать свои "пьесы для танцовщиков".
В последних пьесах Йитса усиливается скепсис в отношении благостных надежд человека и мотив бессмысленности существования. Миром правит слепая случайность, в конце концов над человеческими страстями и стремлениями торжествует осел: "Столько треволнений — и всё зазря: /В результате — всего еще один скот".
Трагические ноты, чувство безнадежности и кризисное мироощущение доминируют в Голгофе, драме на тему Страстей Христовых.
В "Голгофе" все происходит в воображении Христа, который в годовщину своей смерти на кресте вновь грезит о событиях страстной пятницы. У Йитса кроме насмешек и брани толпы Христос подвергается тяжким душевным мукам сначала в диалоге с Лазарем, затем с Иудой и, наконец, с тремя римскими солдатами. Лазарь, вместо сочувствия и благодарности за воскресение, проклинает Христа и желает ему смерти, потому что сам хотел укрыться от мира в смерти, как в норе, и возвращение к жизни стало для него насилием и не померным бременем. Иуда, в трактовке Йитса, предал Христа из-за непомерного честолюбия — ради того, чтобы возвыситься даже над Богом: он гордится и своим предательством, и тем, что спаситель человечества его, Иуду, спасти не может. Но самое горькое ожидает Христа уже на пороге смерти. Солдаты-римляне объясняют ему, что им нечего просить у Бога, так как они всем довольны: когда распятый умрет, они разыграют в кости его плащ, а тем двум, кто проиграет, повезет в следующий раз. Пока они даже готовы развлечь Христа своей пляской — пляской игроков вокруг креста с умирающим. Перед лицом этой непроницаемо самодовольной и торжествующей пошлости Христос впервые по-настоящему ужасается: "Отче, почему ты меня оставил?".
В "Голгофе" весь мир оставлен Богом, и зло торжествует. Подвиг любви или ненавистен, или осмеян, или — самое страшное — просто не нужен. В душе Христа возникает один светлый образ — воспоминание о женах-мироносицах, но это видение тает: собравшиеся вокруг Христа в ужасе бегут, слыша приближение Иуды.
Голгофа — драматическая поэма о подлинной сущности Христа, отличающаяся жгучей злободневностью, глубокой тревогой за судьбы мира. В ней сталкиваются вечно тревожащие человечество голоса трезвомыслия и веры, схоластики и философии духа, повседневного мира и высшей духовной реальности:
Распятие и смерть — реальные факты, поколебавшие веру в его божественность даже у ближайших учеников. Иудей, мыслитель трезвого и реалистического склада, также считает, что их учитель — просто человек: "Он обманывал себя и нас, и я думаю, это все потому, что он любил человечество… Возможно, он с такой скорбью размышлял о наших несчастьях, что страстно желал стать Богом ради нас; возможно, он постоянно думал, что если станет нашим судьей, то сможет оказать нам снисхождение…". По мнению Иудея, обман Христа, пусть благородный и невольный, был разоблачен Иудой, и тот, лишившись веры, отомстил за это предательством.
Противоположная, метафизическая, точка зрения выражена устами Египтянина: "Я считаю, что Иисус — только видимость или фантом… Как только я впервые услышал речь Христа, я понял, что Бог "превратился в фокусника и создал видимость, которую я называл Христом. Мы думаем, что его судили, казнили и похоронили, но все это, может быть, лишь одна видимость… Сердце, кружение крови отделяют человечество от божества. Что такое сердце, если не изменчивость, разложение, смерть? Оно мрачно, глубоко невежественно и ужасно".
Весть о чудесном воскресении Христа, которую приносит Сириец, позитивист Иудей встречает недоверием, а схоласт Египтянин видит в ней подтверждение своей теории иллюзии. Один Сириец верит в соединение божественного и человеческого, в реальность смерти и воскресения Христа. Кульминация действия — чудесное появление Христа в запертой комнате разрешает спор, представляя неоспоримое доказательство. Египтянин, самонадеянно полагавший, что, дотронувшись до тела Христа, он ощутит лишь воздух, в ужасе восклицает: "Сердце фантома бьется, сердце фантома бьется!".
Йитс сказал о главной идее "Воскресения": "Последнее время я стал считать, что ощущение духовной реальности приходит к отдельным людям и к толпам благодаря какому-то резкому шоку, и эта мысль имеет опору в традиции".
Новатор в поэзии, Йитс стал новатором в театре, творцом пьес-масок с глубочайшим внутренним подтекстом, пьес-мифов, в возвышенных символах которых объединены прошлое и настоящее, саги и легенды, с одной стороны, и животрепещущие события дня, — с другой. Это был театр мысли, театр танца, театр поэзии для избранных.
Стремлению понять и увидеть Йитс противопоставляет умение почувствовать и вообразить. По его мнению, на сцену должно прийти изображение "жизни сердца" — внутреннего бытия. Стертому, безжизненному языку натуралистической драмы Йитс противопоставляет поэтически звучащее слово, которому должны быть подчинены и текст пьесы, и игра актера. Чтобы не отвлекать от слова, декорации и костюмы должны быть простыми по форме и цвету. Свой поэтический язык Йитс называет "традиционным языком страстей".
В основу пьес-масок Йитс клал ирландские мифы, в образности которых искал выражение жизненной и поэтической самоуглубленности. В его интерпретации маска и миф — одно: углубленное обобщение, мифологема, философема, единичный символ бытия. У Йитса есть что-то общее с Метерлинком, но он сам искал предтеч в театре Софокла и Шекспира. В письме к Августе Грегори он признавался: "Вы, я и Синг, наперекор времени, намеревались возродить театр Шекспира или даже Софокла". Герои греческой и елизаветинской трагедии привлекают его чистым выражением человеческих страстей, поединком с судьбой. Один из главных героев ирландского эпоса, которого мы не раз встретим в его стихах и пьесах, Кухулин, вступает в борьбу с мистической силой, хранящей источник мудрости. В другой пьесе ослепленный горем сыноубийства Кухулин сражается с волнами, символизирующими неумолимые законы жизни. Он терпит поражение, но борьба страстей продолжается и в загробном мире, и эта борьба пробуждает Кухулина от вечного сна.