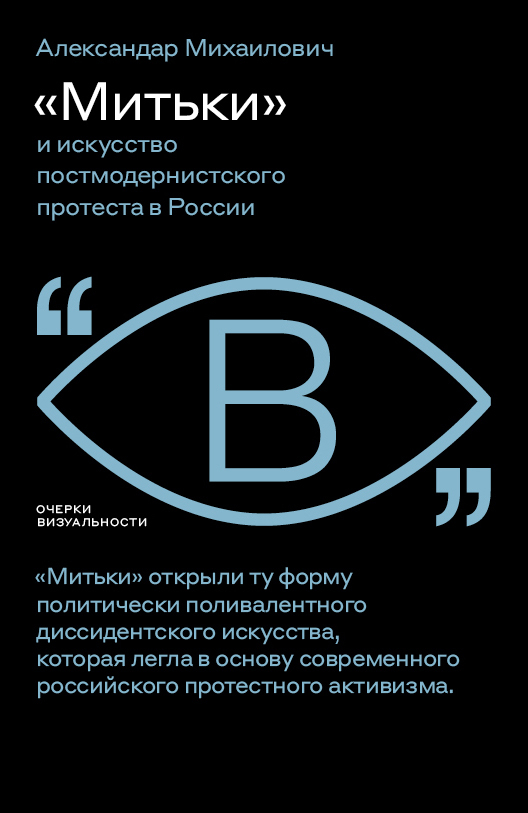памяти. Эту идею Флоренская подкрепляет остроумным художественным решением: изломанная поза ее Икара — явная отсылка к согнутым ногам с картины Брейгеля. Флоренская, Шинкарев и Шагин переосмысляют Икара как трагическую фигуру, мучимую диалектическим противоречием, разрывающуюся между чувствительностью и утонченным эстетизмом, с одной стороны, и тягой к широкому героическому жесту, с другой. Синтез же этих тезиса и антитезиса представляется маловероятным.
Именно поэтому «Митьки» воспринимают собственное творчество как такое пространство, откуда становится возможным размышлять о неудачах и поражениях, как личных, так и национальных. Особую роль в этом исследовании играет для них Русско-японская война. В одном из интервью автору настоящего проекта Дмитрий Шагин сказал, что «образ страшного Цусимского сражения 1905 года», в котором русские проиграли японцам, являет собой содержащий «много загадок» «символ русской истории», который, возможно, ускорил дальнейший трагический ход событий, а также процесс маргинализации российского флота как военного института с четко определенными ценностями [163]. Слова Шагина отражают распространенный взгляд на Русско-японскую войну как на выражение некомпетентности и глупости царского правительства и фитиль, зажегший пламя Революции 1905 года и последующих волнений. В многочисленных воспоминаниях о Цусиме, оставленных офицерами и матросами, подчеркивается храбрость простых моряков. Русские потери в Цусимском сражении воспринимались как бессмысленное кровопролитие, произошедшее по вине самодовольных и стратегически неподготовленных высших офицерских и генеральских чинов, которые не уделили внимания отчетам о техническом превосходстве японского корабельного вооружения. Один российский судовой врач, ставший свидетелем тяжких военных потерь, язвительно писал в дневнике: «рассуждать о политике мы не особенно любим» [164]. «Митьковское» понимание героизма как напрасной трагической жертвы, а правителей как «полых людей» родилось из трагических уроков Русско-японской войны. Этот своеобразный тон присущ тем произведениям «Митьков», где эксплицитно затрагивается поражение России, однако в нем также слышен отчетливый диссонанс, потому что художники не боятся признавать всю сокрушительность этого поражения. В 1998 году Михаил Сапего, поэт и главный редактор «митьковского» издательства «Красный матрос», выпустил собрание документов о разведчике Василии Рябове, загадочном персонаже Русско-японской войны. В предисловии Сапего подчеркивает, что издание «даст [читателю] возможность увидеть себя в Рябове, ибо каждый из нас „сын своего села, своего народа…“ и в дурном, и в высоком смысле» этого выражения [165]. На обложке книги помещена цветная иллюстрация Александра Флоренского, изображающая драматическую сцену казни Рябова японцами. Комментируя эту странную и не вполне лестную летопись жизни Рябова, близкий к ленинградскому андеграунду 1980-х годов петербургский фотограф Сергей Семенов описывает героя так: «Смелый, шустрый, театр любил, жену тоже любил, но и не без греха был — чужим добром попользовался» [166]. В сочетании с тем фактом, что Рябов «так любил [водочку], что, когда приходилось, душу был готов отдать за нее» [167], данная Семеновым характеристика явно перекликается с шинкаревским пассажем о сомнительном «митьковском» бескорыстии («разделить по-христиански — митек выпивает все сам»). Диск «Митьковские песни» (1996) содержит две популярные в конце войны песни. Одну из них, «Варяг», исполняет хор из нескольких участников группы — любительски, но прочувствованно. В ней есть явная бравада: «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“, / Пощады никто не желает!» Другую песню, «Плещут холодные волны», исполняет рок-музыкант Анатолий Крупнов. В отличие от «Варяга», она не скрывает, что Россия сама виновата в поражении, нанесенном ее флоту японцами. Сначала в песне поется, что «Варяг» «бьется с неравною силой», а затем следует признание: «Нет! Мы взорвали „Корейца“, / Нами потоплен „Варяг“!» Баритон Крупнова — почти бесстрастный, монотонный, если не считать постепенного нарастания громкости, — сопротивляется заложенной в тексте сентиментальности, предлагая скорее отстраненную констатацию произошедшей трагедии, нежели болезненное переживание ее заново [168].
Следующий музыкальный альбом «Митьков», выпущенный в 1997 году, содержит песню «На сопках Маньчжурии» в исполнении Алексея Хвостенко (Хвоста). Как и «Плещут холодные волны», эта песня отмечена патриотизмом без попыток опоэтизировать, как это нередко происходило в то время, отрезвляющие потери, понесенные русскими в кампании 1904–1905 годов. Песня поется от лица русского, который горестно созерцает могилы павших воинов: «Забыть до сих пор мы не можем войны, / И льются горючия слезы». Однако не сдается и предрекает: «Но верьте, еще мы за вас отомстим / И справим кровавую тризну!» [169] Хвостенко исполняет сокращенную версию дореволюционного текста песни, лишая ее пафоса, отличающего первую запись (в исполнении Ивана Козловского) и более поздние советские интерпретации. Сдержанно-монотонное хрипловатое пение Хвостенко, пропускающего надрывный куплет виктимной плачущей Руси о «злом роке судьбы», не выражает ни страданий, ни праведного гнева даже в самых страшных и горестных местах. Странная отстраненность от патриотического содержания песни, свойственная манере певца, некоторым слушателям могла бы показаться неуместной или неуважительной [170]. Балансирующее на грани кощунства исполнение Хвостенко, который черпал вдохновение в нарочито любительской певческой манере Шагина, свидетельствует о связи «Митьков» с русской традицией стеба — контркультурного иронического дискурса. Наиболее известным практиком этого дискурсивного режима был их друг, композитор и джазовый пианист Сергей Курехин. Провокационные концерты-спектакли созданного им коллектива «Поп-механика» намеренно затрудняли однозначную идеологическую классификацию сценического действа [171]. Интерпретация Хвостенко предполагает моральную равнозначность враждующих сторон и отказ идеализировать сражение, обернувшееся бойней. Ничто так не способствует созданию или воссозданию «единства общины», писал Рене Жирар, как акты очистительного насилия [172].
Однако Шинкарев все же отвергает этот авторитарный аргумент о социальной полезности реального и воображаемого кровопролития, превращающего номинального врага в «чужого». Анекдот о самоубийственном подвиге утонувшего русского героя напоминает не только слова Бродского о российском флоте как о «склонном скорее к героическому жесту и самопожертвованию, чем к выживанию любой ценой», но и сложившуюся под влиянием буддизма японскую стратегию камикадзе, в годы Второй мировой войны особенно ярко проявившуюся в морских сражениях. Вполне возможно, что построенное на повторе шагинское двустишие «1983 год» отсылает к структуре хайку. Однако было бы ошибкой утверждать, что «Митьки» разделяют взгляд Жирара на политическое насилие. Отсылки к японской культуре тогда уж скорее подчеркивают всю сложность проблемы истинного подвига, не свободного, однако же, от определенных заблуждений. Абсурдистская повесть Шинкарева «Максим и Федор», предшествующая возникновению «Митьков» как отдельного движения, содержит многочисленные отсылки к японским литературным жанрам и тем или иным местам в Японии. Попытки двух не приспособленных к жизни в социуме персонажей — явных прародителей «Митьков» — воспринять духовные ценности Востока оказываются не менее неудачными и нелепыми, нежели выступления «митьков» в роли воинственных героев. Отхлебнув керосина из, как он думал, бутылки с водой, Федор продолжает пить, потому что «с такой силой овладел дзен-буддизмом, что нашел в себе мужество не исправлять ошибки и спокойно