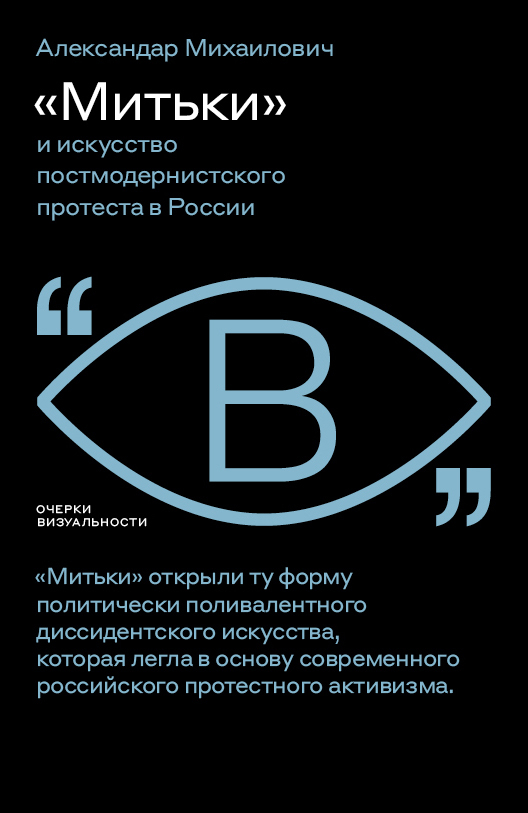допил бутыль до конца» [173].
Роль японской культуры как зеркала, отражающего «митьковские» образы самих себя, поворачивается неожиданной стороной в дальнейшей тематической разработке анекдота о тонущей женщине в творчестве группы. В одной из подчеркнуто шутливых песен Шагин сравнивает Бауи, тоже упавшего за борт, с плавающим в воде «японским богом» [174]. Принадлежащая Бауи сложная техника именуется «шмудаками», что на «митьковском» сленге означает заграничные электронные приборы. В выражении этом содержится ругательство «мудак», образованное, в свою очередь, от слова «муде». Конечно, внешне у Дэвида Боуи нет ничего общего с изображениями упитанного Будды, поэтому Шагин, по-видимому, использует фигуру Бауи скорее в символическом качестве. Но что она обозначает? Возможно, самого Шагина. На первом сайте «Митьков» Шагин назван «эротическим символом» движения, а описывающие его эпитеты («большой, добрый, хороший») можно истолковать как свидетельство просветленной невозмутимости [175]. В своей версии анекдота о тонущей женщине Шагин стремится переписать не только шинкаревский вариант, но и российскую историю. Он пытается нейтрализовать трагическую сущность Русско-японской войны, переосмыслить ее как притчу о столкновении России с Другим, мужского с женским. Ситуация с утопающей становится здесь связующим звеном, ведущим к примирению во всем противоположных друг другу соперников, причем оба, несмотря на неумение плавать, непреклонны в намерении плыть на помощь [176]. Присутствие в самом «митьке» Другого свидетельствует не о победе «митька» (не об акте ритуального каннибализма по отношению к врагу, как сказал бы Жирар), а скорее об изначальной внутренней двойственности. История была изменена, теперь она получила новый исход, где никто не оказался жертвой и все спаслись. Мечта о «кровавой тризне» как о мести за Цусиму окончательно отброшена.
Перетолкованная таким образом история подчеркивает несоразмерность существующих идеалов мужественности с попытками их практической реализации. Цикл картин Ольги Флоренской «Герои русской авиации», посвященный двойственной природе героизма, перекликается с отмеченным Любовью Гуревич вкусом к парадоксу и абсурду, под знаком которых шло усвоение ленинградским андеграундом японских литературных моделей. Флоренская создает проникнутое глубокой меланхолией изображение дореволюционного авиатора Льва Мациевича, отвесно падающего вниз на фоне почти безоблачного неба (илл. 13). Выражение «праздник воздухоплавания» из надписи рядом с накренившимся аэропланом подчеркивает сходство ярко-голубого неба с водой. Внутренняя форма слова «воздухоплавание» хорошо ощущается носителями русского языка, сразу считывающими привычное «плавание». Словно желая подчеркнуть «морской» подтекст своей работы, изображающей гибель Мациевича, Флоренская разделяет две основы составного слова «воздухоплавание» посредством переноса.
Казалось бы, эти и без того насыщенные сцены, разворачивающиеся в мифических небесах и море, не располагают к наличию весомой третьей силы в плодотворной бинарной оппозиции между Россией и ее противоположностями. Однако фигура «Дэвида Бауи» упорно не сходит с подмостков разворачивающейся драмы даже тогда, когда многие уже готовы счесть его эпизодическую роль сыгранной, а пребывание затянувшимся. «Митьковская» репрезентация героического полета или побега, высшей точкой которого становится разочарование или трагедия, случающиеся в воде или над водой, перекликается с разными масками, которые использовал на протяжении своей карьеры Боуи; среди них лирические герои альбомов «Space Oddity» и «Starman», разбившийся и в конечном счете обреченный инопланетянин — протагонист фильма 1976 года «Человек, который упал на Землю» (прибывший на Землю в поисках воды для своей планеты), и герой песни «Heroes», убеждающий свою возлюбленную, которая живет в Восточном Берлине, по ту сторону стены, бежать и сравнивающий их обоих с уплывающими дельфинами. Как и Боуи, «Митьки» обращают внимание на хрупкость и изменчивость самой идеи героизма, скомпрометированной авторитарными идеалами и гендерными предрассудками, ставящими под сомнение женский героизм. Быть может, лежащая в основе «митьковского» поведения жалостливая доброта, вкупе с их сексуальной неопределенностью, роднит их со «змеиной грацией» [177] британского певца больше, чем может показаться. В конце концов, в эссе «Митьковские пляски» (2005) Шинкарев описывает воображаемые танцы «Митьков» как воплощение «удали и силы, затейливости, ловкости, динамичности и изящества» [178]. В сочетании с вымышленным «спасением» Бауи и шагинским признанием в своем всегдашнем желании быть «рок-звездой» [179] эта формула напоминает нам о представлении обоих художников, Шинкарева и Шагина, о самих себе как о двойниках западного поп-кумира и вместе с тем друг друга.
Как отмечалось в предшествующей главе, в середине 1980-х годов Шагин и Шинкарев знакомятся с «Музеем изящных искусств» Одена благодаря попаданию этого текста в сборник англоязычной поэзии, распространявшийся американским консульством. Однако в жизни нонконформистских городских кругов было одно обстоятельство, которое могло значительно усилить интерес к оденовскому тексту, описывающему падение Икара с картины Брейгеля. Весьма вероятно, что известность стихотворения в ленинградской андеграундной среде связана с просмотром пиратских видеокопий «Человека, который упал на Землю». В 1980-е годы видеомагнитофоны выполняли в СССР функцию порталов в неведомые миры, так как при их помощи можно было смотреть западные фильмы, которых не показывали в советских кинотеатрах. Изготовление видеоиздата, как и самиздата, требовало особо доверительных, даже интимных отношений между причастными. В «Митьках» Шинкарев дает толкование сленговому «митьковскому» термину «видак»: «видеомагнитофон, лучше всего импортный», — указывая на сознательную морфологическую аналогию со словом «шмудак» («почти любой, кроме видеомагнитофона, продукт, произведенный в капстранах»), которое, как мы видели, содержит в себе отсылку к мужским гениталиям. Одна из иллюстраций Александра Флоренского к «Митькам» (1990) изображает подсоединенный к телевизору «видак», проигрывающий эротический фильм, что подчеркивает квазисексуальный характер потребления видеопродукции [180]. Своеобразный советский видеозрительский опыт во многом зависел от неровного качества кассет, объяснявшегося износом или многократным копированием. Шинкарев особо заостряет наше внимание на специфическом характере такого опыта в своих картинах 2001 года, посвященных фильму Лукино Висконти «Рокко и его братья» («Rocco e i suoi fratelli») и вошедших в цикл «Кино». Первое полотно представляет собой призрачное изображение с английскими субтитрами, напоминающее об остановленной посреди эпизода видеокассете без русских субтитров, а второе — четкую цифровую версию того же кадра [181]. Нетрудно догадаться, какой из этих парных образов волнует и будоражит воображение, а какой кажется стерильным и бездушным.
Из сказанного очевидно, что в советском контексте просмотр такого необычного фильма, как «Человек, который упал на Землю», заведомо имел привкус запретного плода, не говоря уже об откровенно провокационном содержании ленты. В частности, Дэвид Боуи предстает полностью обнаженным спереди. Важное место в фильме занимает иллюстрированный альбом, где стихотворение Одена соседствует с репродукцией картины Брейгеля: книга намекает на печальную участь инопланетянина, которого играет Боуи [182]. Некоторые детали «митьковской» рецепции стихотворения останутся непонятными без обращения к фильму Николаса Роуга и манерной, загадочной актерской игре Боуи. Стихотворение Одена не содержит каких-либо намеков на сексуальную неоднозначность; нет в нем и идеи непохожести культур, не говоря уже