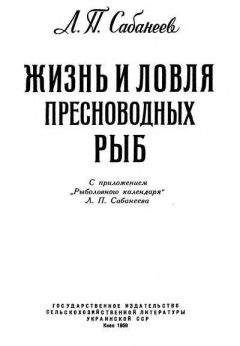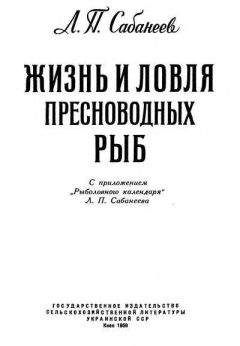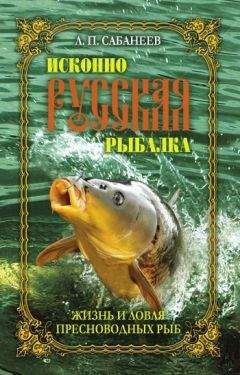Вот смотрите:
Так дурно жить, как я вчера жила, —
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу
и пошлости нетрезвая жара
свистит в мозгу по замкнутому кругу.
Какая тайна влюблена в меня,
чьей выгоде мое спасенье сладко,
коль мне дано по окончанье дня
стать оборотнем, алчущим порядка?
Господи! Да ведь этот же «стыд быть при детях и животных» испытывает герой песни Высоцкого, который вечером пел директору дома моделей, а утром смотрит похмельным трезвым взглядом на первого ученика, который «шел в школу получать свои пятерки».
Не надо подходить к чужим столам
и отзываться, если окликают, —
налицо, конечно, биографическое сходство (слава, полускандальность, в чужом пиру похмелье), но главное сходство — в отвращении романтического героя к тому в кого он волею судьбы и саморастраты превратился. Впрочем, такая саморастрата, алкоголь, промискуитет, многобрачие, эпатаж — все было неким экзистенциальным вызовом. Не только Системе, не только ее властям и ее быдлу, но и миропорядку, установлениям человеческой жизни: романтическим поэтам они невыносимы.
Отсюда и безоглядная храбрость Ахмадулиной, полное отсутствие у нее инстинкта самосохранения, о котором влюбленно писал Нагибин: если в падающем самолете все устремятся в хвост как в наиболее безопасную часть, его Гелла не тронется с места. Будет грызть яблоко. Жест? Да. Но жест, оплаченный жизнью. Отсюда безоговорочно порядочное, отважное, красивое поведение Ахмадулиной во всех ситуациях, в которых пасовали мужчины (хотя красивейшей женщине русской литературы вряд ли что грозило, кроме непечатания, но ведь и многочисленным мужчинам ничего такого гулаговского не грозило за подписание честного письма, а сколько было подонков!). Ахмадулина была первым академиком, подавшим голос в защиту Сахарова (хотя состоит она только в одной из американских академий искусства). В том же ее письме содержался горький упрек советской академической среде, позорно молчавшей. Ахмадулина подписывала, по-моему, все письма: в защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, Чуковской и Солженицына… Ореол гонимости, конечно, шел Ахмадулиной, и она сознавала это. Но и для того, чтобы делать рассчитанные и красивые жесты, нужна храбрость. И Ахмадулина вела себя храбро. Храбрость по большому счету и есть красота.
Это сейчас ее муж Борис Мессерер дает пошлые интервью пошлому «Московскому комсомольцу» — пошлые в том смысле, что в них идет речь о богемности московских артистических нравов и почти ни слова о том, каким творческим трудом оплачена эта богемность. Но когда-то мастерская Мессерера давала приют лучшим литературным силам Москвы, и не только Москвы. Ахмадулина никогда особенно не бедствовала, но и никогда ничего не жалела, с истинно романтической щедростью все раздавая и всем помогая. Она подбирала кошек и собак. Она дарила любимые вещи. Она привечала всех. И отголоски этой доброты, щедрой до безвольности, проникли и в ее тексты: здесь та же щедрость и избыточность дарения. Отсюда и многословие, с литературной точки зрения не слишком привлекательное, но по-человечески обаятельное и понятное. Это та же щедрость — при нежелании и неумении высказать простую мысль в двух словах растягивание ее на десять, двадцать, пятьдесят! Но в этой же словесной избыточности — что-то от многословия XIX века, в который Ахмадулина влюблена, как всякий истинный романтик. Тогда люди были многословны и высокопарны, ибо у них было время, а возвышенный ход их мысли еще не поверялся запредельно убогой и кровавой реальностью… Говорили не «дружба», а «о возвышенное чувство, коего чудесный пламень…». Трезвый и лаконичный Пушкин над этим издевался (так что любовь Ахмадулиной к нему носит характер общекультурного преклонения, а не творческого освоения). Мы умиляемся. Так же можно умиляться архаичности ахмадулинского словаря и словесной обильности ее поэзии.
А какая-нибудь восторженная поклонница с вот такими глазенками навыкате ляпнула бы сейчас, что и дождь щедр, и снегопад чрезмерен, и природа всегда избыточна, всегда через край… и полился бы поток благоглупостей, но поэт не в ответе за своих эпигонов.
Бесстрашие и трезвость самооценки, отсутствие иллюзий на свой счет — вот что привлекательно уже в ранней Ахмадулиной:
Не плачьте обо мне — я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.
Не плачьте обо мне — я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.
Здесь есть самоуничижение, есть и самолюбование, но есть и то, чем стоит любоваться.
Белла Ахмадулина отмечает свой юбилей. Она верна себе. Перед нами замечательный феномен шестидесятничества — нерасторжимость человека и поэта. Оценивать их поврозь — занятие неблагодарное, от критериев чистой литературы здесь приходится отойти. Гораздо интереснее их столкновения, их сотрудничество, их диалог, составляющий главную тему ахмадулинского творчества. А для того чтобы делать чистую литературу, на свете достаточно не очень романтических мужчин и не очень красивых женщин.
12 апреля. Премьера «Тени» Е.Л. Шварца (1940)
Отбрасывать тень
12 апреля 1940 года Ленинградский театр комедии показал в постановке Николая Акимова «Тень» Евгения Шварца. В отличие от «Дракона», снятого с постановки после первого представления, она некоторое время держалась на сцене, была напечатана и успела разойтись на цитаты, недостоверно храбрые по тому времени. «Забудьте о том, кем я был!» «Если не поссоримся, чего там вспоминать». «Поверь мне, я всегда был ближе к земле, чем ты». «Король есть, теперь жить будет гораздо лучше! Двоих задержали. Один вместо „Да здравствует король“ кричал „Да здравствует корова“, а второй ничего не сделал, он мой сосед, характер у него дрянной, давно до него добираюсь». Впрочем, я еще помню, как после премьеры фильма Надежды Кошеверовой (1971, на детских сеансах в семидесятые его крутили постоянно) зал хохотал над репликой «Легче всего съесть человека, когда он в отпуске» — память о снятии Хрущева была свежа. Да и сегодня «Тень», почему-то почти нигде в столицах не идущая, вызывала бы в зале тот самый специфический смех освобождения и взаимопонимания, которого больше всего боятся запретители: «Один банкир третьего дня перевел за границу даже свои золотые зубы. Теперь ездит то туда, то обратно — на Родине ему нечем пережевывать пищу». Я уж не говорю о главной пружине сюжета — тень приходит к власти: этот намек в России опасен в любые времена, потому что прочие отсекаются на подступах. Сцена же, когда во дворце одновременно оказываются Теодор-Христиан и Христиан-Теодор — и первый напоминает второму, чтобы он знал свое место, — покажется в наше время даже большей крамолой, чем нашумевший спектакль Омского театра-студии Л. Ермолаевой «Ждем тебя, веселый гном».
Но, разумеется, величие и актуальность пьесы Шварца далеко не в этих вечно сиюминутных подколках, о которых сам он думал меньше всего. Нас занимает эволюция классического европейского сюжета о человеке без тени — сюжета, который после знаменитой повести Шамиссо о Петере Шлемиле (1814) кто только не обрабатывал. Наиболее знамениты, однако, оказались две сказочные вариации на эту тему — андерсеновская и шварцевская. Шамиссо рассматривал трагедию человека, выпавшего из числа живущих, вышагнувшего из обыденности и потому становящегося изгоем. В романтическом повествовании Шамиссо тень — метафора человечности, даже, пожалуй, и души — ибо именно душа роднит человека с другими; утратив то, что есть у всех, он обречен на одиночество и холодную, абстрактную ученость. Андерсен трактует эту историю иначе: для него тень — символ бытовой приземленности, наглости, уверенного преуспеяния, и сказка этого терзателя детских душ кончается вполне в его духе: с ученым расправляются, а сбежавшая его тень, обнимая принцессу, веселится на троне. Шварц идет дальше всех, придумывая финальный сюжетный ход, вполне достойный Андерсена и уж подавно Шамиссо. Когда ученого обезглавливают, тень его тоже остается без головы — и перепуганному королевскому двору приходится согласиться на воскрешение ученого. «Иногда надо идти на смерть, чтобы победить».
В основе шварцевского сюжета — гениальная догадка о паразитической природе зла, светлая мысль, которой не допускал Андерсен. Зло обязано заботиться о добре, оберегать его, поскольку оно этим добром питается; тень обязана беречь источник света, ибо он же — источник ее существования. Это ответ на вечный вопрос о том, почему сталинский террор щадил тех-то и тех-то; почему ничтожества — в том числе сама обслуга террора, его исполнители, — становились его жертвами не реже, а то и чаще истинных светочей. Периодически биографы задаются вопросом: почему Сталин не тронул Марию Юдину, в личном письме назвавшую его великим грешником? Почему не тронул Пастернака, почему сначала приказал сохранить Мандельштама, почему возвысил отнюдь не бездарного Симонова (а бездарный РАПП разгромил без сожалений)? Никаких сентиментальных чувств он, разумеется, не питал. Он чувствовал лишь (а Шварц этот страх вербализовал, вытащил наружу), что, если в стране не останется светлых голов, не поздоровится и темному главе. Именно здесь — разгадка опеки Воланда над Мастером, его прямой зависимости от несчастного сумасшедшего, как говорил Иешуа Понтию Пилату: «Помянут меня — сейчас же помянут и тебя». Кстати, Воланд ровно в это же время (роман в 1938 году закончен, пьеса начата) спорит с Левием Матвеем о свете и тени и получает заслуженное клеймо «старого софиста», но совпадение более чем показательно. Софистом называется тот, кто выворачивает наизнанку простую и очевидную истину. Воланду кажется, что он служит Богу, доказывая его бытие от противного. На деле он существует только потому, что само существование света предполагает и наличие «теневой стороны вещей». В определенных условиях, когда в обществе становится слишком много Цезарей Борджа и Юлий Джули, то есть всё понимающих циников и «обеспеченных людей с голодными глазами», эта теневая сторона вещей становится особенно заметна и начинает даже казаться единственной. Тогда тень перестает знать свое место; и это уже серьезно.