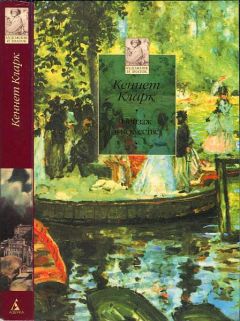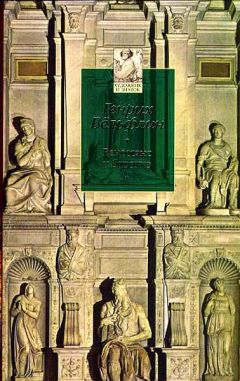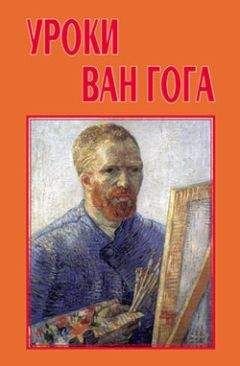Именно это и придает раннему натурализму Средних веков такую красоту. Листья, цветы и завитки соборов в Реймсе и Саутуэлле, которые в XIII веке пробиваются сквозь лед монашеских страхов, обладают чистотой первозданности (ил. 5). Сама скрупулезность исполнения и отсутствие отбора служат доказательством того, что их увидели впервые.
И на лугах, и в низинах
Все было свежесть утренней зари[1].
Цветы Реймса и Саутуэлла распустились слишком рано, их побил холодный ветер доктрины. Однако в XIII веке растительный орнамент стал постепенно появляться на капителях колонн, на полях рукописей, и последователи св. Франциска уже могли относиться к эпизодам его жизни как к fioretti[2].
Таким образом, люди впервые начали воспринимать объекты природы индивидуально, как то, что способно радовать глаз само по себе и символизировать божественные начала. Следующий шаг к пейзажной живописи был сделан, когда в этих объектах увидели части, образующие некое целое, входившее в пределы воображения и являвшее собой символ совершенства. Это произошло с открытием сада. «Открытие», в некотором смысле, неверное слово, поскольку зачарованный сад — будь то Эдем, сад Гесперид или Тирнагог — один из самых устойчивых, широко распространенных и утешительных мифов человечества, и его возвращение в XII веке было лишь частью пробуждения общего дара воображения. Ту самую множественность чувств, которую св. Ансельм считал столь опасной, церковь теперь признала предвкушением рая. Персидское слово «парадиз» означает «огороженное стенами место», и вполне возможно, что особая ценность, придававшаяся саду в позднем Средневековье, является наследием крестовых походов. Во всяком случае, идея цветущего луга, огражденного от мира жестоких случайностей, где любовь, божественная и земная, могла найти самое полное выражение, появляется в провансальской поэзии одновременно с другими дарами Востока. Нам рассказывают, что в самом волшебном из садов — в том, где разворачивается действие «Романа о Розе», — росли деревья, привезенные из земли сарацинов. Любовь к садам не была уделом одних поэтов. Альберт Великий, самый энциклопедичный философ Средневековья, в «De Vegetabilibus» описывает парк или фруктовый сад с растущими в мягкой траве виноградными лозами и плодовыми деревьями и добавляет: «За лужайками во множестве растут пахучие травы, чей аромат услаждает обоняние, а также цветы: фиалки, водосбор, лилии, розы и ирисы, которые своим разнообразием чаруют взгляд». Монашеский аскетизм св. Ансельма остался далеко позади.
6. Неизвестный художник. Триумф смерти, фрагмент фрески в Кампосанто, Пиза. Ок. 1360Как и все остальное в Средневековье, этот новый дух обретает самое концентрированное воплощение у Дайте. В XIX веке исследователи «Божественной комедии» приложили немало труда, чтобы отметить в ней каждое упоминание природы, и открыли прекрасные образы, такие же ясные, как резьба капителей XIII века. Несомненно, в сознании Данте красота природы играет бесконечно меньшую роль, чем божественная красота теологии. Но, читая поэму, мы чувствуем, как пугающий мир раннего Средневековья постепенно сменяется более благостным миром microtheos, когда Бог уже мог проявиться в природе. Свое путешествие Данте начинает в дремучем лесу (единственное, что помнят почти все); оно близится к концу, когда лес редеет и поэт видит на противоположном берегу ручья даму, поющую и собирающую цветы, растущие под ее ногами («Чистилище», XVIII, 40–60). Через сорок лет сад даст приют очаровательным компаньонам Боккаччо — они удалятся на «лужайку, усыпанную тысячами цветочков», чтобы рассказывать свои истории, в то время как чума свирепствует за стенами. Возможно, именно эта чума увековечена на фреске в Кампосанто[3], одном из первых изображений группы людей в саду, которая в XIX веке была известна как работа Орканьи, но в действительности была выполнена неизвестным пизанским последователем Лоренцетти (ил. 6). На ней представлена компания гуляк, сидящих под деревом, перед ними раскинулся ковер из живых цветов. Они музицируют и бросают друг на друга влюбленные взгляды, которым многочисленные реставрации придали легкую гротескность. Не приходится сомневаться, что молодые люди наслаждаются радостями, доставляемыми всеми пятью чувствами, но дабы лишний раз подчеркнуть это, над их головами помещены два амура: так и кажется, что они слетели с античных саркофагов, стоявших (как и сейчас) вдоль стен Кампосанто. Эта фреска — ответвление сиенского искусства. В традиции флорентийской живописи пейзаж не играл практически никакой роли. Голые скупые скалы, которые в работах Джотто выполняют функцию фона, великолепно поддерживают равновесие каждой группы; но Джотто, этот великий наблюдатель человеческих жестов и лиц, не снизошел до фиксации своих наблюдений растительного мира. В какой степени эта традиция монументального искусства определила его стиль, мы поймем, если вспомним, что Джотто был живописцем жития св. Франциска. Если бы он включил в свои произведения побольше цветов, с какой благодарностью историки искусства приводили бы цитаты из кантов св. Франциска, дабы показать, что дух единения с природой присущ творчеству этого художника.
7. Симоне Мартини. Апофеоз Вергилия. Фронтиспис книги сочинений Вергилия из библиотеки Петрарки. 1340Итак, именно в сиенской живописи следует искать ощущение красоты природы, которое мы открыли у поэтов начала XIV века. И мы находим его в творчестве Симоне Мартини pi братьев Лоренцетти. Самые ранние из дошедших до нас пейзажей в современном понимании этого жанра мы находим на фресках Амброджио Лоренцетти «Аллегории доброго и злого правления». Они настолько реалистичны, что едва ли относятся к пейзажу символов и почти целое столетие остаются единственными в своем роде. Симоне, напротив, был прирожденным интерпретатором небесной красоты в ее чувственном выражении. Его золотые ткани под стать тем, что устилают небеса для благословенных, а ритмично ниспадающие драпировки вторят ангельскому пению. Во всем этом он был близок прекрасному готическому искусству Франции и отнюдь не случайно в 1339 году отправился в Авиньон.
Полагают, что именно в Авиньоне Симоне встретился с Петраркой, человеком, чье имя стало символом соединения двух миров — Средневековья и Нового времени. Должно быть, они подружились, ведь Петрарка не только называет художника «il mio Simone»[4], но и упоминает в сонетах, что Симоне написал портреты его и Лауры, а нам известно, что в зрелом возрасте поэт произносил имя этой женщины только в кругу самых близких друзей. Портреты эти утрачены, и я могу назвать очень мало произведений искусства, которые мне хотелось бы разыскать так же сильно. Каким-то чудом (библиотека Петрарки испытала множество превратностей судьбы) сохранился его любимый экземпляр Вергилия, где есть не только сведения о смерти Лауры, но и фронтиспис работы Симоне (ил. 7).
На фронтисписе поэт изображен в цветущем саду, а стоящие рядом пастух и виноградарь символизируют «Эклоги» и «Георгики». Здесь впервые со времен античности будни сельской жизни представлены в произведении искусства как источник счастья и поэзии.
Во всех исторических трудах Петрарку называют первым человеком современности. И это вполне справедливо, ведь по своему скептицизму, любознательности, неугомонности, честолюбию и чувству собственного достоинства он действительно один из нас. Но всякий, кто по прочтении его писем обратится к странному, основанному на самоанализе произведению, которое он назвал «Моя тайна», обнаружит, что над этими признаками современности все еще преобладает монашеская философия. То же можно сказать и об отношении Петрарки к природе. Пожалуй, он первым выразил душевный порыв, от которого зависит существование пейзажной живописи, — стремление бежать от суматохи городов в умиротворенность сельской жизни. Он укрылся в Воклюзе, где жил уединенно, но не с целью отречься от земной жизни, как сделал бы цистерцианец, а чтобы еще больше ею насладиться. «Знал бы ты, — писал он одному из своих друзей, — с какой радостью брожу я в одиночестве среди гор, лесов и водных потоков, упиваясь свободой». В этом признании звучит совсем иная нота, нежели в описаниях страшных лесов и ужасных гор у средневековых поэтов, в том числе и у самого Данте. Петрарка был еще и садоводом в современном смысле: он не просто восхищался декоративным богатством и разнообразием цветов, но изучал их особенности и ежедневно отмечал в своем журнале все стадии развития и роста отдельных растений. Наконец, как известно, он был первым, кто поднялся на гору просто так, чтобы полюбоваться открывающимся с вершины видом. После нескольких минут восторженного созерцания далекой панорамы Альп, Средиземного моря и Роны он решил наугад раскрыть «Исповедь» Блаженного Августина, Его взгляд упал на следующий фрагмент: «И люди ходят чуда и сюда, чтобы подивиться высоте гор, и мощи волн морских, и широкому разливу рек, и круговращению океана, и движению звезд, но в самих себя не обращают взоров своих». «Я пришел в смущение и попросил брата (желавшего слушать дальше) не докучать мне, и закрыл книгу, досадуя на то, что нахожу удовольствие в земных вещах, я, который мог бы давно понять даже по трудам языческих философов, что только душа достойна удивления, и если это великая душа, то вне себя она не находит ничего великого. Но воистину я был доволен, что вдосталь насмотрелся на гору. Я обратил внутренний взор в себя самого, и, пока мы спускались к подножию, с уст моих не слетело ни слова». Ничто не может дать более полного представления о сознании, породившем пейзажную живопись позднего Средневековья. Природа в целом по-прежнему волнует, она необозрима, опасна и будит множество беспокойных мыслей. Но в этой дикой стране человек может огородить сад.