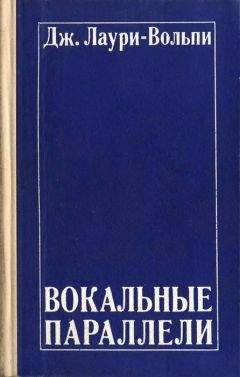В театре Карузо слишком злоупотреблял мощью дыхания. Своим нижним регистром он так гордился, что включал в свои концерты и даже напел на пластинку басовую арию из «Богемы» — «Слушай, мой друг старинный». В дни спектаклей он с утра пораньше подвергал свою непластичную гортань тяжелому испытанию — пропевал от начала до конца партию, которую должен был исполнить вечером. Легкое вхождение в рабочее состояние не числилось среди достоинств, присущих этому уникальному вокалисту.
Огромной популярности Карузо способствовали два немаловажных фактора — изобретение звукозаписи и триумфально встреченные публикой «Паяцы» Леонкавалло. На всей земле не было уголка, в котором из граммофонного рупора не прозвучало бы ариозо «Смейся, паяц!» в исполнении Карузо. Если счастливая встреча Таманьо с главным героем оперы «Отелло» породила легенду о туринском теноре, то встреча оперы, голоса и механического аппарата положила начало мифу о теноре неаполитанском. Удача и одаренность порой дополняют друг друга самым неожиданным образом. Голос Карузо и музыка Леонкавалло оказались словно созданными друг для друга. А резец звукозаписывающего аппарата втиснул в бороздки воскового диска голос, более всех остальных подходивший для этой цели — матово-мягкий, разливистый, мясистый и упругий. Звонкие до пронзительности голоса Тамберлика, Гайяра, Маркони, Мазини, Таманьо, Станьо, Бончи с их полетными верхами, требовавшими пространства и света и их особыми акцентами, выразительность которых строилась на уплощении звука, не легли бы так хорошо на пластинку.
Карузо оставался строжайше верен ритму и темпу, питая отвращение к «находкам» и отсебятинам поборников бельканто последнего образца. Этим он в корне отличался от своего современника и последователя Алессандро Бончи, последнего питомца старой школы, голос которого, сверх того, нефонографичен или, если хотите, нефоногеничен.
Фернандо де Лючиа был продуктом другой эпохи и другой среды; хотя он и пел «Кармен», «Ирис» и «Сельскую честь», его голос по тембру и характеру не отвечал требованиям и канонам веристской мелодрамы.
Его артистический инстинкт толкал его на симуляцию тех самых страстей, которые Карузо глубоко ощущал как истинные и переживаемые сию минуту. Эти страсти и сожгли в конце концов великого певца.
Параллель Боргатти — Мельхиор
Если бы Рихарду Вагнеру довелось послушать в «Тристане и Изольде» болонца Джузеппе Боргатти, он не стал бы приберегать своего безграничного восхищения исключительно для Шнорра, первого исполнителя главной партии, которому он в свое время дал такую характеристику: «При звуках этого голоса мой усиленный оркестр (да, да, ни более ни менее! — Л.-В.) словно исчезал, или, лучше сказать, умирал в выпеваемом им живом слове». Боргатти покорил бы Вагнера фразировкой, благородством осанки, гордым блеском глаз, тех самых глаз, которым позднее было отказано в радости видеть дневной свет. К нему тоже могла бы быть отнесена нашумевшая реплика Вагнера: «Написать третий акт „Тристана“ — это пустяки. Вот прослушать его в исполнении Шнорра — это работа не шуточная».
Тот факт, что у нас нашелся исполнитель, сумевший встать вровень с требованиями «гордого варвара», создавшего музыкальную трагедию и издевавшегося над Рубини и его вокальной эквилибристикой, — этот факт отраден и поучителен одновременно. Он отраден для оперных певцов и поучителен для тех критиков и тех дирижеров, которые питают глубокую антипатию к голосам, тяготеющим к эпической мелодраме.
Голос Боргатти делает честь итальянскому вокалу. Наиболее сильным его качеством было то мастерство, та пластическая экспрессия, с которой он пользовался словом. Здесь он затмевал самого Карузо. И этот несравненный артист умер слепым, в одиночестве, покинутый и забытый всеми! В энциклопедии Треккани о нем даже не упоминается. А он был не только самым крупным итальянским певцом-вагнеристом, но и первым, или, во всяком случае, одним из первых исполнителей партии Андре Шенье. До сих пор помнится, каким прекрасным поэтом-революционером он предстал перед публикой, как впечатлял вдохновенный блеск его глаз и падающая на плечи грива!
Да будет нам позволено сравнить с Джузеппе Боргатти датчанина Мельхиора,[14] человека огромного роста, который долгое время занимал господствующее положение в театре «Метрополитен», придя на смену Кирхофу и Лаубенталю. Американцы дали ему прочное положение, считая его самым совершенным исполнителем вагнеровской музыки. Тосканини порекомендовал ему разучить партию Отелло и специально поехал в Лондон, чтобы послушать его в первом спектакле, состоявшемся на сцене театра Ковент-Гарден. И вот голос, который в немецком репертуаре приводил Кудесника в восторг, предстал перед ним во всей наготе своих изъянов и недочетов, до сих пор безупречно замаскированных декламацией и звучностями мощного вагнеровского оркестра. Тосканини был разочарован и растерян. Оказалось, что даже его тончайший слух, безошибочно различавший тембры отдельных инструментов в толще звуковых напластований, не всегда улавливал сущность и специфику певческих голосов!
Боргатти не мог похвастаться внушительной фигурой скандинава и, возможно, не всегда с надлежащей точностью и филигранностью передавал душевные состояния некоторых вагнеровских персонажей. Зато он превосходил Мельхиора по поэтичности, силе убеждения и искренности, которую вкладывал в свое исполнение.
Боргатти не имел счастья исколесить мир вдоль и поперек — в его эпоху радио и кино не завладели еще душами людей. Сегодня певец, подобный ему, не имел бы соперников.
Параллель Бончи — Маккормак
Алессандро Бончи питал неодолимое отвращение к фальцетистам. В разговоре с автором он однажды сказал, что «мецца воче — это шелк, фальцет же — лишь ситец». Он прозрачно намекал на флорентийского тенора Дино Борджоли и на теноров нового поколения, которые увлекались в то время порочной манерой петь «пустым» звуком, считая, что это позволяет экономить силы. Но Дино Борджоли обладал хорошим вкусом, видной внешностью и блестящими верхами; сверх того, он искусно гримировался и причесывался. Непримиримая ненависть к фальцету делает Бончи большую честь, если учесть, что сам он мог легко воспользоваться гибридной природой своего голоса, чтобы преуспевать в амплуа легкого тенора, вполне ему доступном. Вместо этого он во время пения настолько бдительно контролировал свою технику, что атаку каждой высокой ноты начинал со специфического «въезда» с единственной целью не впасть в опасную медоточивость и не дать «пустого» дыхания. Этот прием производил впечатление жеманства и замутнял благородную чистоту его вокала, который многие современные ему критики ставили выше карузовского.
Он впервые обратил на себя внимание, выступая в партии Фауста в римском театре «Квирино». Представители самых старших поколений помнят еще его каватину «Привет тебе, приют невинный», спетую свойственной ему манерой «модулированного речитатива». После этого всем, кто пел «Фауста» в Риме, пришлось с этой манерой считаться.
Бончи не владел стенобитной мощью Таманьо, хитроумием Станьо, воздушным микстом Анджело Мазини, захлестывающим темпераментом Маркони или упруго пульсирующей страстностью Карузо, но он превосходил их всех умной рассчитанностью своей похожей на искусную вышивку звукописи, плавностью вокальной линии и безупречной заделкой швов в звуковой ткани, прошитой тончайшей иглой в руке мастера опытного и предусмотрительного, который ничего не оставлял на волю судьбы и случая. Каватина «В грезах ночных» из «Фаворитки» в его устах напоминала не «виолончель» Карузо или «скрипку» Мазини, она словно выпевалась гобоем, звуком воздушным и вместе с тем плотным, уверенно направляемым в позицию, точно отмеренным по длительности и математически рассчитанным по воздействию. В общем, этот певец из Чезены был достойным наследником Мазини, хотя мать-природа и не одарила его столь же волшебным богатством тембра. Автор, любивший его и восхищавшийся его творчеством, помнит его в «Доне Паскуале», в «Любовном напитке», в «Бале-маскараде». Он был последним великим тенором — если говорить о плавности и чистоте звуковой линии, — какого имела Италия. После него тенора, за редчайшими исключениями, сбились с правильного пути, потеряли волшебную тропу, ведущую сквозь звуковые чащобы, опустились до уровня жонглеров-халтурщиков, ушли в хилую красивость, позволительную разве что для манеры неаполитанских менестрелей. Нелегко забыть ариозо из «Дона Паскуале» или «Очи ее прелестные» с их чеканностью мелодической линии, в особенности же сцену из «Бала-маскарада», начинающуюся словами «То шутка, иль безумье» и буквально вышитую голосом Бончи, словно диковинный и прихотливый узор. Ее исполнение можно назвать открытым уроком пения — такой артистической добросовестностью оно отличалось (под добросовестностью мы здесь разумеем веру в цель и свои средства, преданность музыкальному тексту, неутомимость в благородном стремлении передать как можно точнее мысль автора, не внося в исполнение чужеродных интонаций и тембров). Не секрет, что в целом партия Ричарда утомляла блестящий и подвижный голос певца, но публика прощала ему любые шероховатости, лишь бы еще раз услышать эти перемежающиеся раскаты смеха, отделявшие одну ноту от другой в ансамбле второй картины, ставшему знаменитым благодаря ему. Впоследствии его попытался копировать Пертиле, а за ним Джильи и многие другие, но все, чего они добились, это заставили со вздохом сожаления помянуть неповторимую игру звучностей, показанную некогда Бончи, эту заряженную электричеством волну сдержанных смешков. Сам Джузеппе Верди в письме от 21 мая 1898 года выражал «прекрасному тенору Бончи» свое «весьма приятное удивление» по поводу этих раскатов смеха, признавая за артистом «единственность и неповторимость его личного мастерства». Верди добавлял: «Сверцо „То шутка иль безумье“ надлежит подавать почти говорком, лишь слегка затрагивая ту область, где начинается пение, а добавляя смех, не нарушать темпа и пауз». Иначе говоря, Верди в этом отрывке требовал «пения одними губами». Кто сегодня сумел бы спеть одними губами, давая при этом звук опертый и насыщенный?