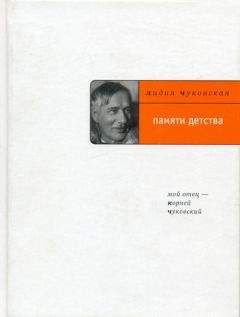Дружески обнимаю и целую Вас. Похлопочите и Вы о скорейшем исполнении моего наизаконнейшего желания. Да ведь необходимо проехать и в Москву навестить друга П[авла] Михайловича] Третьякова и моего обожаемого мудреца — Илью Семеновича Остроухова. Надо посетить Румянцевский музей, галерею Третьякова, Цветкова (ведь там тоже плодовитый не в меру труженик представлен…). О, сколько, сколько…
Поскорей! Ответьте, дорогой…»
Письмо было помечено 7 июня 1925 года. Вскоре пришло и другое письмо, из которого выяснилось, что дочь, обещавшая Илье Ефимовичу сопровождать его в Ленинград и Москву, отказалась выполнить свое обещание, и больной восьмидесятилетний художник был вынужден остаться до конца своих дней на чужбине.
Беспредельно было его одиночество среди озлобленных и одичалых эмигрантов. Всю жизнь он прожил на вершинах культуры, в дружеском и творческом общении с такими людьми, как Лев Толстой, Менделеев, Павлов, Мусоргский, Владимир Стасов, Суриков, Крамской, Гаршин, Чехов, Короленко, Серов, Горький, Леонид Андреев, Маяковский, Мейерхольд, — это было его привычное общество, — а тут какие-то поручики, антропософы, попы.
Он попытался сблизиться с финнами. Подарил им деревянное здание театра на станции Оллила (тот самый «Прометей», который некогда был подарен им покойной Наталье Борисовне). Пожертвовал в Гельсингфорский музей все бывшее у него в Пенатах собрание картин (две картины Шишкина, несколько собственных, относящихся к лучшей поре его творчества, бюст Толстого своей работы и т. д. и т. д. и т. д.).
Подарок его был принят с большой благодарностью, финские художники почтили его фестивалем. Покойный поэт Эйно Лейно публично прочитал ему стихи:
Репин, мы любим тебя,
Как Россия — Волгу.
Вилли Вальгрем, Винкстрем, Галлонен, Ярнфельд, Галлен-Каллела — все они выражали Репину самые лучшие чувства, но общих интересов у них не нашлось, и возникшая было дружба заглохла. Ему оставалось одно: его великое прошлое. И я, чтобы как-нибудь скрасить его сиротство, нарочно уводил его мысли к былым временам и в своих письмах расспрашивал его главным образом о творческой истории его прежних картин и портретов. Он охотно откликался на такие расспросы, его письма ко мне приобрели понемногу автобиографически-мемуарный характер, и предо мной снова возник прежний Репин, непревзойденный драматург нашей живописи, проникновеннейший из русских портретистов. Письма его были большие, на пяти-шести листах. Получишь такое письмо, перечтешь его несколько раз и спешишь вместе с ним в Третьяковскую, чтобы по-новому вглядеться в ту или иную картину, о которой говорится в письме, хотя бы и знал ее с детства. Изучаешь этап за этапом все периоды его неутомимого творчества и всякий раз совершается чудо: беспомощный, дряхлый старик снова и снова встает перед тобой силачом, легко раскрывающим самые глубины души человеческой. Недаром на его лучших картинах так часто представлены люди, застигнутые какой-нибудь страшной бедой, испытывающие такие огромные чувства, каких до той поры у них никогда не бывало, чувства, далеко выходящие за пределы ровной, налаженной жизни, обыденных, привычных эмоций.
Вообще его реализм был бурным и пламенным. Спокойное изображение мирного, обывательского житья-бытья никогда не привлекало его. Никогда не писал он идиллических сценок из быта дюжинных людей и людишек.
Вспомните его царя Ивана, только что убившего сына, и Софью после казни стрельцов, и того осужденного на смерть (в картине «Николай Мирликийский»), который вытянул шею и с сумасшедшей надеждой глядит на приостановленную казнь товарища, — во всех трех картинах ничего заурядного, повседневного, мелкого: необычайные переживания людей, застигнутых внезапной катастрофой.
И вспомните лицо ссыльного в картине «Не ждали». Ссыльный шел тысячи верст и все думал, как он войдет в эту комнату, где его семья, его мать, и вот он входит наконец в эту комнату, — только Репину дано изобразить, какое у него было в эту единственную секунду лицо, лицо, готовое и плакать и смеяться, лицо, в котором не одно выражение, а множество и каждое доведено до предела.
И лицо революционера, приговоренного к виселице (в картине «Отказ от исповеди перед казнью»), гордое лицо человека, победившего ужас смерти, противопоставляющего своим палачам несокрушимую духовную силу.
Все эти катастрофические, огромные, чрезмерные чувства для Репина родная стихия.
И что всего замечательнее, он изображал их без всякого внешнего пафоса, без театральных эффектов и преувеличенных жестов.
Его Софья, например, в самый разгар катастрофы, разрушившей всю ее жизнь, просто стоит и молчит и молча глядит перед собой, и все же в этой, казалось бы, обыкновеннейшей позе — высшее напряжение отчаяния, гнева и такого пылания души, какого не погасить даже смертью. Она не изливается в проклятьях, она не мечется по своей келье-тюрьме, которая тесна ей, как могила, она просто стоит и молчит, и в этой ненависти художника к внешним эффектам — национальное величие Репина. Русскому искусству враждебна риторика, как враждебна она русскому народу и русской ненавязчиво прекрасной природе.
Репин не был бы русским талантом, если бы даже в изображении наиболее патетических чувств не оставался предельно простым, ненапыщенным, чуждым всякой позе и фразе.
В его картине, изображающей смертника, который отказался от исповеди, тоже ни малейшей риторики, никакого театрального жеста. Смертник просто сидит на койке, запахнувшись в арестантский халат, и, как бы для того чтобы не соблазниться каким-нибудь напыщенным жестом, Репин спрятал ему руки в рукава, отняв у себя, казалось бы, наиболее сильное средство для выражения человеческих чувств.
И все же именно благодаря такому отсутствию внешних эффектов эти огромные чувства выражены здесь с истинно репинской силой — чувства испепеляющего презрения к врагу и морального триумфа над тиранией и смертью.
Изобразительная мощь его живописи была так велика, что и не прибегая ни к каким мелодраматическим жестам, он каждой прядью волос, каждой складкой одежды мог выразить любое, самое сложное чувство, переживаемое его персонажами.
Недаром у него столько картин и рисунков, где люди изображены со спины, ибо многие спины, изображенные им, гораздо экспрессивнее лиц, написанных другими художниками. Спина старухи матери в «Не ждали» есть предел изобразительной силы: тут и сомнение, и надежда, и вглядывание, и страх ошибиться, и уже начинающий громко звучать вещий голос материнской любви, подумать только, что вся эта живая динамика противоречивых и быстро сменяющихся человеческих чувств выражена согбенной фигурой, у которой мы даже не видим лица!
И в картине «Государственный Совет» то же самое: не только физиономии, но даже затылки и спины сановников вскрывают перед нами всю подноготную каждого.
В каждую лучшую свою картину Репин всегда вносил столько широкого и могучего чувства, что даже малые, казалось бы, сюжеты, которые у другого художника так и остались бы в области мелкого жанра, вырастали у него до необъятных размеров. Его «Запорожцы», например, вовсе не группа смеющихся запорожских казаков — это синтез всей Сечи, квинтэссенция обширного периода украинской истории!
И вряд ли в нашей живописи есть более широкое обобщение старой России во всем многообразии ее классовых и кастовых черт, чем репинский «Крестный ход», который у другого художника, пожалуй, так и остался бы жанровой сценкой.
И репинские «Бурлаки» — это меньше всего жанровая, бытовая картина; вглядитесь в этих оборванных, тощих людей, сгрудившихся у волжского берега, и вы увидите, сколько в них задатков для великого будущего.
Показывая свою картину друзьям — она находилась тогда в частном собрании, — Илья Ефимович с теплым участием говорил о каждом бурлаке. Он знал биографию каждого, и в его голосе слышалось уважение к ним.
Среди этих бурлаков есть один, который, по мысли Репина, включает в себя лучшее, чем силен и прекрасен народ.
«Неспроста это сложное выражение лица, — говорит о нем Репин в своих мемуарах. — Какая глубина взгляда, приподнятого к бровям… А лоб большой, умный, интеллигентный лоб… Была в лице его особая незлобивость человека, стоящего неизмеримо выше своей среды» и т. д.
Репин придал его чертам столько задушевности, столько чувства собственного достоинства, столько внутренней гармонии, ясности, что сам собой возникает ответ на вопрос, обращенный великим поэтом к народу:
Ты проснешься ль, исполненный сил?..
Иль… духовно навеки почил?
Вообще никакой малости Репин не вмещал в своем творчестве. Когда он пытался изобразить что-нибудь обыденное, мизерное, какую-нибудь жанровую, заурядную сценку, он терпел почти всегда неудачу, так как огромный его темперамент требовал огромных, широко обобщенных сюжетов.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)