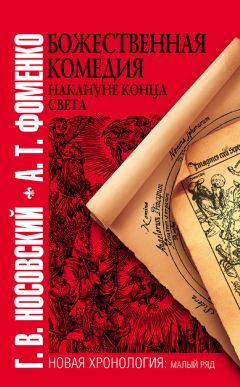Ее хватило для бегства в Швейцарию. 17 декабря 1940-го семья возвращается в Цюрих, где началась его жизнь изгнанника и где потом протекли подвижнические годы создания Улисса. Но пожить в нейтральной Швейцарии ему было не суждено. Через три недели после приезда Джойса доставили в больницу с прободением язвы двенадцатиперстной кишки. Спасти его не удалось…
Следует выбирать существенную черту и воссоздавать ее или, что еще лучше, создавать ее.
Э. Дюжарден
Объективировать субъективное, а не субъективировать объективное.
Ж. Мореас
Так кто же открыл человека? Гераклит? Теофраст? Лабрюйер? Гельвеций? Байрон? Гёте? Достоевский? Джойс? Беккет? Не будем фальшивить: будь один ответ, не было бы этой книги.
Унаследовав традицию искусства абсурда и боли, Джойс сделал следующий шаг: ночь началась не сегодня — она была всегда. Мир не одряхлел — дряблость его извечное состояние. Разложение — изначальное, постоянное, не подверженное переменам свойство человечества. Посреди смерти мы пребываем в жизни.
Мир как хаос, балаган, фарс, бордель, бестиарий, бойня. История как необозримая панорама бессмысленности и анархии. Человек как непредсказуемость и неопределенность.
Как все художники абсурда и боли, Джойс не отрицал гуманизм, он отвергал ложь как антигуманность.
Джойс искал истину в вечности, которой была каждая минута. Именно потому ему претили сиюминутные интересы политиков и приносимая им в жертву правда. Возможно, поэтому он решительно размежевался с идеологами ирландского национализма. Гомруль был для него самоизоляцией от мировой культуры — и только.
Наверное, поэтому он безжалостен: ничто не упущено, всё подвергнуто осмеянию — не только Ирландия и ирландцы, политика и коммерция, печать и реклама, — но этика и эстетика, свободы и идеалы, великие имена и святыни. Мужественный и искренний, Джойс, черпая из культуры, рисует злую пародию на историю английской литературы — от Мэлори до Карлейля, от древних саг до Диккенса. Участники профанации — все: и гениальнейший драматург, величайший творец после Бога, написавший историю этого мира in folio, который одновременно есть бог-палач, конюх, мясник, сводник и рогоносец, и великие философы прошлого — от Аристотеля до Аквината, вовлеченные в шутовской хоровод, и, тем более, мелкие людишки, не отличающие эстетику от косметики и язык и мудрость Библии от языка и мудрости бизнеса.
Новый Рабле, он оглушительно смеется над миром, но это уже не смех карнавала — это макабрический смех духа, осознавшего, что дух бездуховен. Да, смех Джойса — не площадный хохот Аль-кофрибаса и даже не желчное издевательство Каденуса — это смех-плач, новый феномен смеха — смеховое постижение абсурда.
X. Ортега-и-Гасет:
Художник сегодня приглашает нас, чтобы мы принимали искусство как бром, чтобы мы видели, что оно является, по существу, насмешкой над самим собой. Вместо того, чтобы смеяться над чем-то определенным — без жертвы нет комедии — новое искусство делает смешным самое себя. Никогда еще искусство не обнаруживало так хорошо свой магический дар, как в этой насмешке над самим собой. Потому что намерение уничтожиться в своем собственном движении создает искусство и его отрицание есть его сохранение и триумф.
Подобно Фрейду и Юнгу, Джойс и Кафка расширяют сознание за счет бессознательного. Их цель — проследить за многими слоями сознания, сделать его срез до глубины. "Он [Джойс] хочет запечатлеть сразу всю многомерность и многоплановость сырой субстанции мышления, раскаленной, вихревой, в ее брожении, во всевозможных ракурсах". Джойса интересует не логика, не связи, не переходы, а сам процесс, первичная стихия, рождающая мысли и безумие. В сущности, Джойс стал первым экзистенциальным художником, не отражающим существование, а пишущим его так, как оно дано сознанию. С него берет начало грандиозная работа по художественной очистке сознания — освобождению его от рационально-идеологических наслоений цивилизации.
Цель этого искусства — подняться над героями, быть способным понять их всех! Да, люди отделены друг от друга кожей, черепными коробками, убеждениями, но это — внешне, на поверхности. В глубине же они — подобны! Тем больше, чем глубже!
…обрушились непроницаемые перегородки, разделявшие персонажей, и герой романа стал временным ограничением, условной вырезкой из общей ткани.
Мифотворчество Джойса естественно как стихийная потребность гения в самовыражении. Он не придумывает миф, но творит его из самого себя. Это самое исповедальное, самое автобиографическое искусство. Искусство-отцовство. Художник-демиург и творец.
Защищая композицию Улисса от упреков в бесформенности, Элиот определил пафос мифа XX века как страстное стремление Джойса посредством мифологизации выявить неизменные инварианты и с их помощью организовать исторический опыт:
Использование мифа, проведение постоянной параллели между современностью и древностью… есть способ контролировать, упорядочивать, придавать форму и значение тому громадному зрелищу тщеты и разброда, которое представляет собой современная история.
Пафос всякой мифологии, джойсовской — в такой же мере, как и гомеровской — "пафос превращения хаоса в космос". И для Джойса, и для самого Элиота миф был не только средством осмысления современной истории, сколько "орудием сознательной борьбы с историческим временем", средством демонстрации вечной истины: "Всё всегда сейчас".
Говоря о Джойсе, Элиот неизменно подчеркивал его мастерское умение придавать переживаниям четкое выражение, не впадая в сентиментальность и нравоучительность, не изливая свои чувства на читателя. Джойс создавал зримый образ, отчетливый узор, ясную мифологему. "Каждая точная эмоция стремится к интеллектуальному выражению" — этому принципу Элиот постоянно следовал сам, этот принцип видел реализованным в Улиссе.
Там, где Олдингтон видел "приглашение к хаосу" и "клевету на человечество", Элиот обнаружил высшую правду: "Я считаю, что в этой книге наш век нашел наиболее существенное выражение изо всех, какие до сих пор он имел".
Мифологизм Джойса, Лоуренса, Клоделя, Йитса, Элиота, Паунда, Ануя, Кокто, Жироду, Носсака, Камю — это реакция на торжествующий рационализм "победителей жизни". Современное мифотворчество — протест и средство спасения культуры от цивилизации. Миф как вместилище универсальных свойств человеческой природы и как корень культуры. События — только пена вещей, как говорил господин Тэст. Единичные факты — пустые химеры. Важны сущности, а они-то и скрыты в мифе.
Джойс мифологичен и потому музыкален ("ибо разве музыка не есть миф внутренней жизни?"). Налицо музыка потока сознания, нашедшего затем свое музыкальное выражение в звуковом потоке Шёнберга и Берга, в красочном потоке Матисса, Кандинского, Малевича и Леже, в поэтическом потоке Элиота и Паунда.
Джойс покончил с дидактикой, с поучением, с ригоризмом верховного судьи. Ему, как затем Дюрренматту или Бергману, одинаково чужды праведник и отшелец Книппердоллинк, проходимец и лжепророк Бокелзон, жадно и грязно упивающийся плотскими радостями бытия, или же рассудочный епископ, придерживающийся золотой середины. В век мировых войн, Освенцима и ГУЛАГа, проповедь добра и "великие идеи" настолько дискредитировали себя, что даже пользоваться их языком означало бы причаститься к грязи.
Джойс отказался от прекраснодушного морализаторства еще потому, что для непредвзятого художника и психолога здоровье, болезнь, порок, добродетель только психические состояния, одинаково ценные для исследователя. Важна не моральная оценка, а вивисекция. Натурализм так или иначе видел свою задачу в том, чтобы "исправить" или "направить" человечество, модернизм — в том, чтобы содрогнуть его. "Увидел он плоды рук своих и содрогнулся…". Нет, это не было апокалиптическое искусство конца, это было искусство боли и последней надежды.
Я не могу согласиться с мадам Саррот, будто Джойс покончил с характерами, заменив их психологическими состояниями, ибо не понимаю, чем первые отличаются от вторых. Да, сознание интересовало его больше, чем характер, но разве характер не состоит из психологических состояний?
Эстетика Джойса может быть выражена несколькими триадами: полнота, ритм, озарение. Или: объемность, гармония, епифания. Или: личный опыт, дистанция, отстраненность. Здесь гармония — музыкальная согласованность, стилистическое и семантическое единство частей, тем, мотивов; епифания озаренность, интуитивность выявления истины и сущности жизни.
Внимание! У мэтра модернизма — никаких признаков декадентской эстетики: только реализм — глубинный, сущностный, нутряной; только критицизм — правда, какой бы она ни была; только полифония — неприятие монологического и дидактического искусства; ведь идеи не заданы изначально, всё течет…