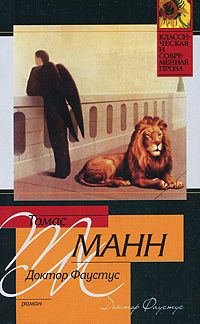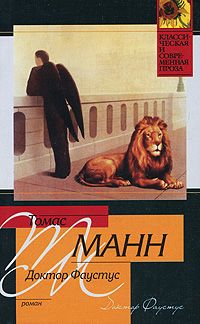Терри Райли. Betty Freeman
К примеру, в Piano Phase (1967) Райха перекрещивающиеся музыкальные узоры «сдвигаются по фазе» относительно друг друга, словно железнодорожные вагоны, расцепившиеся на повороте. Ничем более не связанные, они образуют новые, постоянно меняющиеся пространственные взаимоотношения. Неторопливость этого процесса для Райха была очень важна. «Чтобы облегчить слушателю внимательное, тщательное погружение в материал, все музыкальные процессы должны осуществляться постепенно», — писал он. А слушательский опыт, по его мнению, должен быть сродни «стоянию у кромки океана и наблюдению за тем, как ноги постепенно омываются водой и тонут в песке». Если Гласс увлекался индийскими рагами, то Райх — звучанием африканских барабанов. Кроме того, он признавался, что так и не смог освоить многие традиционные западные исполнительские техники; в этом контексте и Райх, и Гласс сумели обратить свою слабость в силу.
Предтеча минимализма
Эрик Сати предвосхитил многие модные современные музыкальные формы, например эмбиент или минимализм. Он с гордостью сочинял своего рода «мебельную» музыку — звуки, которые просто висели в воздухе, не требуя слушательского внимания, а также создавал композиции неограниченной (или почти неограниченной) продолжительности, например Perpetual Tango, которое в зацикленном виде повторялось до бесконечности, или Vexations (1893), которое предполагалось исполнять восемьсот сорок раз подряд.
История не сохранила сведений о том, исполнялись ли Vexations от начала до конца при жизни Сати, но 9 сентября 1963 года в нью-Йоркском Pocket Theatre произведение было сыграно целиком, причем в деле принимала участие целая сборная команда пианистов: Джон Кейдж, Дэвид Тюдор, Кристиан Вольфф, Филип Корнер, Виола Фарбер, Роберт Вуд, Макрей Кук, Джон Кейл, Дэвид дель Тредичи, Джеймс Тенни, Джошуа Рифкин и Говард Кляйн, музыкальный обозреватель New York Times, который был командирован, чтобы написать об этом представлении статью. Согласно Кейджу, энтузиазм Кляйна несколько превышал его исполнительские способности. Как бы там ни было, концерт длился с шести вечера до 12:40 следующего дня. Входной билет, как рассказывал Джон Кейл, стоил пять долларов, однако посетителям возмещалось по пять центов за каждые двадцать минут, которые они выдерживали в зале, а тем, кто оставался до самого конца, сулили еще и призовые двадцать центов сверху. Целиком представление высидел один человек — актер по имени Карл Шенцер; этот подвиг позволил ему через некоторое время стать гостем телешоу «У меня есть тайна». Поп-арт-художник Энди Уорхол рассказал писателю Джорджу Плимптону, что посетил премьеру Vexations как раз тогда, когда монтировал фильм «Спи», знаменитый своей монотонной структурой.
Впрочем, в истории музыки идеи минимализма всплывали в самые разные времена. Композитор XVII века Генри Перселл сочинил Fantasia Upon One Note, в которой означенная нота звучала на протяжении всего произведения. «Болеро» Мориса Равеля состоит из мелодии и ритмического рисунка, который красной нитью проходит через всю композицию, а в финале достигает яркой кульминации. Сам Равель был шокирован популярностью этой своей работы. «Похоже, я написал только один шедевр — „Болеро“, — говорил он своему коллеге Артюру Онеггеру. — Жаль только, что в нем совсем нет музыки». Между тем равелевский «Вальс», в котором легкий салонный вальсок постепенно наращивает энергию и к концу достигает поистине раблезианских пропорций, тоже явно близок минимализму. Композитор называл его «фантастическим водоворотом роковой неизбежности».
Даже искусный венгерский композитор Дьердь Лигети (1923—2006), провозгласивший себя «полной противоположностью Джона Кейджа и всей его школы», на самом деле признавал значеНие Кейджа. Сложный, тщательно сконструированный мир звуков в произведениях Лигети сделал его любимцем многих композиторов и исполнителей конца XX века. И тем не менее в своей «Симфонической поэме для 100 метрономов» он просто приводил в движение ту самую сотню метрономов, в абсолютно кейджевском духе, и позволял каждому из них замедлять ход и останавливаться в собственном темпе.
Главная претензия Лигети к Кейджу и его последователям заключалась, как пояснял он сам, в том, что «они верили, будто жизнь и искусство — это в сущности одно и то же… тогда как мое кредо состоит как раз в том, что это не одно и то же. Искусство по своей природе искусственно». Минималистам трудно было с этим не согласиться, ведь их способ погружения слушателя в транс вовсе не был связан с поэтизацией конкретного, случайно выбранного жизненного момента, как у Кейджа. Напротив, они тщательно манипулировали слушательским вниманием, вызывая у него, как сказали бы психологи, чувство вовлеченности — в конечном счете слушатель сдавался на милость бесконечно повторяющимся ритмическим узорам и принимался зачарованно следить за тем, как формы растягиваются и мутируют, будто облака, медленно плывущие по небу. Пожалуй, одной из предпосылок к появлению минимализма как такового стала именно тоска по внятным ритмическим структурам. Абстрактная академическая музыка тех лет, порвав с танцевальными корнями, которые непременно в том или ином виде сохранялись во всех более общедоступных жанрах, оказалась практически их лишена.
Джон Кейдж весьма показательно объяснял различие между своим подходом и методами Стива Райха: «Он пишет музыку так, что любой, кто ее слышит, может понять, что в ней происходит. Более того, он хочет, чтобы люди понимали, что происходит. А я хочу, чтобы люди этого не понимали, чтобы они были озадачены и заинтригованы происходящим — так же, как я заинтригован луной или переменами погоды. Да что там, сама наша жизнь — тоже весьма интригующая штука».
* * *
Еще один аспект вечной тайны звука — древняя идея «музыки сфер» — занимал умы таких музыкантов, как Ла Монт Янг, который вообще отказался от современных настроек фортепиано в пользу чистых резонансов, заданных самой природой (дело в том, что в современных инструментах эти природные гармонии по определению «темперированы», то есть несколько «подправлены», чтобы хорошо сочетаться друг с другом и избегать диссонансов, которые в противном случае обнаружились бы в любой композиции из стандартного музыкантского репертуара). Главная пьеса Янга, «Хорошо настроенное фортепиано», которую композитор начал разрабатывать в 1964 году, может исполняться шесть часов подряд, а ее основу составляют длинные, тягучие, словно бы окутывающие слушателя созвучия: мягкие медитативные фрагменты при этом то и дело сменяются громовыми звуковыми вихрями, и в целом эффект получается совершенно ошарашивающим.
Отказ от современной системы «ровного строя» дал композиторам возможность расширить звукоряд своих работ, и это позволило некоторым — в частности, яростному нонконформисту Гарри Парчу, конструировавшему свои собственные инструменты с необычными настройками, — провозгласить обыкновенное фортепиано «черно-белым двенадцатиклавишным препятствием на пути к истинной музыкальной свободе». Вообще говоря, эксперименты со строем встречались в истории музыки еще с античных времен, и многие композиторы всерьез полагали, что с их помощью можно познать секреты музыкального волшебства. Но для других — например, для американского новатора Чарлза Айвза, написавшего произведение для двух фортепиано, настройки которых различались ровно на четверть тона, в результате чего в октаве оказывалось не двенадцать, а все двадцать четыре ноты, — все это было не более чем увлекательной игрой. Сходным образом возможности альтернативных строев увлекли и Джорджа Гершвина — совместно с мастером микротональной музыки Гансом Бартом он подготовил четвертьтоновую версию своей Второй прелюдии для концерта в «Карнеги-холле» в 1930 году.
* * *
Наконец, еще один метод выхода за пределы обыденного хорошо знаком любителям Листа и Паганини: речь, конечно, об ошеломляющей виртуозности. В XVIII веке именно демонстрация выдающегося исполнительского мастерства, как правило, закладывалась в основу музыкальной алхимии, а контрапункт, то есть искусство хитроумного сочленения мелодий, в котором мелодически фрагменты пригоняются друг к другу, как кусочки пазла, сравнивали с философским камнем. В умелых руках все это напоминало божественное (а порой и дьявольское) откровение, навык, неподвластный простым смертным. Некоторые даже верили, что виртуозы оттачивали искусство контрапункта в специальных «секретных лабораториях». Дрезденский капельмейстер Иоганн Давид Хайнихен в трактате 1728 года отразил эти настроения, сравнив искусный контрапункт современных ему фуг с суеверием и назвав его мастеров фанатиками.