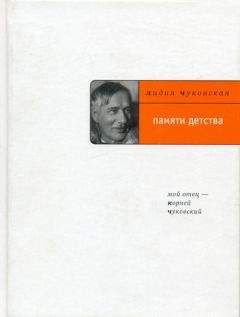Дело в том, что в руках у Ильи Ефимовича — некорректированные оттиски этой книги, он же воображает, что это — книга в окончательном виде, и естественно раздражается, встречая опечатки, которых в окончательной редакции нет… Я не хотел раздражать Илью Ефимовича и потому прекратил разговор… Я уверен, что это временный приступ „великого гнева“. Надеюсь, что неудача моей миссии всецело зависит от неприязни ко мне, которую питает его семья. Уверен, что, например, И. Я. Гинцбург (которого он ждет с нетерпением) — будет гораздо удачливей меня»[190].
Чуковский все сильнее ощущает неприязнь семьи Репина.
«Юрий и Вера, — подчеркивает он в своей дневниковой записи, — как подпольные, озлобленные, темные, неудачливые люди предпочитают обо всем думать плохо, относиться ко всему подозрительно, верить явным клеветам и небылицам… Самое неприятное то, что влияние этих людей сказалось и на отношении Репина ко мне…
В первое время он согласился напечатать свои „Воспоминания“. Теперь его свите померещился здесь какой-то подвох, и все они стали напевать, что, исправляя его книгу, я будто бы погубил ее. Со всякими обиняками и учтивостями он сегодня намекнул мне на это. Я напомнил ему, что моя работа происходила у него на глазах, что он неизменно даже преувеличенно хвалил ее, восхищался моими приемами, что на его интонации я никогда не покушался, что я сохранил все своеобразие его языка. Но он упорно, хотя и чрезвычайно учтиво, отказывал: Нет, этой книге не быть. Ее нужно напечатать только через 10 лет после моей смерти.
Так как корректура его экземпляра весьма несовершенна, он считает, что все ошибки наборщиков принадлежат мне…
Он упорно стремился прекратить разговор всякими любезностями и похвалами: „О, вы дивный маэстро“ и проч.
— Заговорили о Сергееве-Ценском. „О, это талантище. Как жаль, что я не успел написать его портрета. Замечательный язык, оригинальный ум“[191].
Чуковский, разумеется, интересовался тем, какие картины создал Репин за эти годы. Об этом он пишет Нерадовскому из Куоккалы:
„Новых вещей у него много. О них при свидании. Среди них наиболее заметное полотно: местный священник в алтаре на коленях (портрет, масло)“[192].
В другом письме к Нерадовскому Чуковский подробно перечисляет картины Репина, висящие в „Пенатах“. Перечень картин, которые он увидел в столовой репинского дома, Чуковский заносит и в свой Дневник. Там же — приметы тогдашнего репинского быта:
„Коновязь цела старая — теперь уже лошадей так мало, что дорогу не заезживают.
Голубятня[193], где Репин спит с июня по август и теперь.
Скуфейка высокая — парусиновая вышитая — голова мерзнет с тех пор, как был голод…
Уплотнился — в одной комнате и кровать, и обеденный стол, и кабинет, и отчасти мастерская. Бывшая спальня превращена в мастерскую“.
Накануне отъезда из Куоккалы Чуковский записывает свой последний разговор с Репиным:
„Я сказал Илье Ефимовичу, что завтра хочу уехать и прошу его рассказать мне подробнее о своем житье-бытье. Ну что же рассказывать! Очень скучно здесь жилось. Самое лучшее было время, когда была жива Наталья Борисовна, когда Вы тут жили… Тогда здесь было много художников и литераторов. А потом никого“ [194].
Через несколько дней после отъезда из Куоккалы, уже в Хельсинки, Чуковский получил письмо от Репина. Тон письма такой, словно никакой размолвки и не было.
„…Вот радость: что вы заедете ко мне? — спрашивает Репин. — Неужели проскочите?.. А сколько было вопросов!! Заезжайте. Теперь ведь уже в последний“[195].
Репин был прав — их свидание и в самом деле оказалось последним. Чуковский тотчас ответил на репинское письмо:
„Нет, нет, дорогой Илья Ефимович, в Куоккала я больше не ездок!“ Чемоданы мои уложены, билет куплен, сегодня я уезжаю в Россию. Жаль, что я так поздно узнал о Вашем желании снова повидаться со мною. Я, конечно, изменил бы свой маршрут. Теперь нельзя.
В Куоккале мне было неуютно. Терпеть не могу шептунов, трусливо клевещущих у меня за спиною. Бабьи дрязги вызывают во мне тошноту. Я надеюсь, что скоро мы увидимся с Вами в Петербурге при других обстоятельствах. Пойдем по музеям, побываем в Эрмитаже, в опере… Здесь я нашел истинный клад: мои письма, бумаги, картины, которые считал безвозвратно утерянными. Особенно много Ваших писем; я прочитал их подряд — какие они юношеские, мажорные, огненные! Также сохранились корректуры Ваших „Воспоминаний“, множество фотографических] Ваших портретов и проч. Цел также и мой портрет Вашей работы (фотографический] снимок, корректированный Вашей рукой), целы и письма Натальи Борисовны. Спасибо добрым людям, сохранившим для меня это добро! Много фотографий моих детей, все мои дневники, письма Льва Толстого, Куприна, Мережковского, Блока, Леонида Андреева, Валерия Брюсова — все цело, все вернулось ко мне. Сохранился и Ваш фотографический портрет, подаренный Вами Марье Борисовне [196] в день ее именин. Все это я вновь рассортировал, разобрал, — уложил в ящики и везу домой. Довезу ли?
Был я здесь в картинной галерее. Очень хорошо повешен Ваш автопортрет (вместе с Натальей Борисовной)[197]. Я смотрел эту картину, как новую; у Вас она терялась среди многих других, а здесь выиграла очень…
Вся стена Ваша в этом музее напомнила мне давние „Пенаты“. Вот „русская Мона Лиза“ — не помню как ее фамилия[198],— вот „хлопец“ Кузнецова, вот Куликов, вот Кустодиев. Все это знакомо мне уже тысячу лет. Одно ново: ваш эскиз, исполненный чернилами: не Минин ли среди народа?[199]
Впрочем, есть и еще новость: я узнал, что по-фински Вас нужно величать I. RÄPIN. Так значится под Вашими картинами и под бюстом Толстого.
Так напишу и я на конверте.
Ну, до свидания. Черкните мне несколько строк в Петербург. И не забудьте своего обещания: прислать мне еще несколько Ваших портретов самого последнего времени…»[200].
В одном из следующих писем Репин снова высказывает сожаление:
«Как жаль, что Вы так скоро исчезли отсюда. У меня было столько вопросов к Вам.
Теперь я здесь уже давно совсем одинок; припоминаю слова Достоевского о безнадежном положении человека, которому „пойти некуда“. Да, если бы Вы жили здесь, каждую свободную минуту я летел бы к Вам: у нас столько общих интересов… А главное, Вы неисчерпаемы, как гениальный человек, Вы на все реагируете и много, много знаете, разговор мой с Вами — всегда — в запуски — есть о чем…»[201].
В то время, когда Репин писал это письмо, в Ленинграде шла подготовка к юбилейной репинской выставке. В 1924 году ему исполнилось восемьдесят лет. Труд по организации выставки взял на себя П. И. Нерадовский, который заведовал тогда художественным отделом Русского музея.
«Застал я Петра Ивановича за какими-то чертежами,— пишет Чуковский Репину, — он как раз распределял Ваши картины для предстоящей Репинской выставки. Распределяет он превосходно, с огромным вкусом и тактом, „по-петербургски“. Посмотрели бы Вы, как развешены у него картины А. А. Иванова (этюды, полученные от Боткина). Как великолепно распределены в отдельном зале картины Брюллова! А Венецианов! А Боровиковский! Он говорит, что в Москве на Репинской выставке [202] Ваши картины повешены хламно, путанно, кое-как, отчего они много проиграли. Таков теперь „Московский стиль“. (В Москве человек не знает, с чьей женой он живет, сколько у него детей и т. д. Неразбериха, суета и чепуха). Нерадовский спрашивал у меня, какой величины этюд Васильева (тот, где Вы возвращаетесь по Волге с этюдов). Он хочет и его приобщить к циклу „Бурлаков“[203].
Теперь он хлопочет о том, чтобы после Пасхи ему разрешили поехать в Куоккала. Я завидую ему — и потому, что он увидит Вас, и потому, что апрель в Куоккала — чудное время. Помню, у Вас в саду уже над снегом летают бабочки, а в киоске[204] жара тропическая, а над морем — пройдешь и помолодеешь[205].
Юбилейная репинская выставка в Государственном Русском музее в Ленинграде открылась 30 мая 1925 года и была самой полной прижизненной выставкой художника.
Впервые перед широкой публикой предстала картина „Заседание Государственного совета“ вместе с этюдами к ней.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)