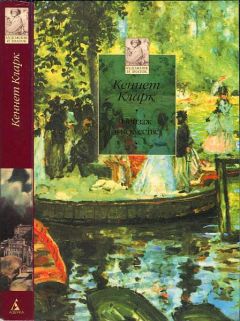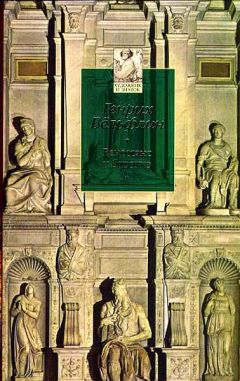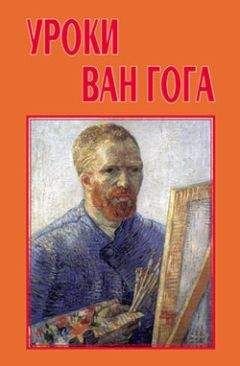В пейзаже символов отдельные детали соединяются декоративно или в виде выразительного узора. Слияние этих элементов в общую картину достигается через восприятие света. Многие художники и критики от Леонардо до Сёра придерживались мнения, что трактовка света является частью науки живописи; однако работы Хуберта ван Эйка, Джованни Беллини, Лоррена, Констебла и Коро доказывают, что своей эстетической ценностью свет обязан тому, что он является выражением любви. «Как воздух заполняет все вокруг, а не заключен в одном месте, как свет Солнца заливает всю Землю, так и Бог пребывает во всем и все пребывает в Нем». Именно это мистическое ощущение единства творения, выраженное светом и атмосферой, послужило основой живописного единства для импрессионистов, хоть они этого и не сознавали; ссылки на науку, к которым они иногда прибегали с целью защитить свои интуитивные прозрения, — не что иное, как характерный для XIX века способ утверждения все той же веры, ибо тогда наука все еще базировалась на предположении о наличии некоего основополагающего естественного порядка, на вере в то, что, как говорил Пифагор, природа, несомненно, последовательна во всех своих действиях.
Итак, пейзажная живопись, как и все формы искусства, являлась актом веры; и в начале XIX века, когда более ортодоксальные и систематические верования приходили в упадок, вера в природу стала формой религии. Именно теория Вордсворта лежит в основе значительной части поэзии и почти всей живописи этого века, именно она вдохновила «Современных художников» — величайшее произведение художественной критики той эпохи. Вера в то, что присущая природе святость оказывает очищающее и возвышающее воздействие на тех, кто открыл ей свое сердце, получила в этой работе наиболее полное выражение: занимающие сотни страниц подробные описания природных форм, листьев, ветвей, строения облаков, геологических образований казались современному читателю совершенно уместными, хотя веком раньше или позже они показались бы столь же далекими от художественной критики, как и от теологии.
Люди критического склада уже не принимают эту веру с такой готовностью, как раньше, но она по-прежнему вносит немалую лепту в тот комплекс воспоминаний и инстинктов, который пробуждается в душе среднего человека при слове «красота». Почти каждый англичанин на вопрос, что он понимает под красотой, примется описывать ландшафт: возможно, озеро и гору, возможно, сад при загородном доме, возможно, серебряную березовую рощу с колокольчиками, возможно, небольшую гавань с красными парусами и свежевыбеленными домиками — иными словами, пейзаж. Даже те из нас, для кого популярные образы красоты потускнели от бесконечного повторения, по-прежнему видят в природе ни с чем не сравнимый источник радости и утешения. Если эта жажда все так же сильна и владеет столь многими, то имеем ли мы основания считать, что пейзажная живопись и в будущем останется преобладающей формой искусства? Этот вопрос влечет за собой еще один, более сложный: насколько та или иная форма искусства может сохранить свою жизнеспособность, если она опирается на пассивное согласие непросвещенного большинства, а не поддерживается активной убежденностью образованного меньшинства? Сложность этого вопроса объясняется тем, что никогда прежде не существовало такого разрыва между популярным и образованным вкусом. И хотя в прошлом популярный вкус в конечном итоге всегда приспосабливался к вкусу меньшинства, сегодня может показаться, что чрезвычайно эзотерическое и специфическое произведение, встречающее одобрение немногих, настолько лишено человечности, что умрет от имбридинга. Это — устойчивое мнение, но я полагаю, что оно ошибочно. Вне зависимости от того, сохранят ли более специфические формы современного искусства свою действенность в будущем или нет, едва ли можно сомневаться, что живое искусство любого периода должно выражать идеи более активных умов, а не равнодушных масс, для которых искусство — это в лучшем случае социальная условность, приносящая тихую радость. Поэтому рассмотрим, насколько способны повлиять на искусство пейзажной живописи верования и способы выражения, проявившие за последние пятьдесят лет наибольшую жизнеспособность.
В первой главе я высказал предположение, согласно которому изменения в искусстве происходят в результате как внешних, так и внутренних причин. Кажется, что до определенной точки искусство следует своим собственным законам, зависящим от того, что можно назвать техническими соображениями в самом широком значении этого выражения; и отдельный гений всегда может повести его в новом направлении. Но кроме того, искусство всегда будет отражать основополагающие посылки — бессознательную философию своего времени. Вначале я обращусь к причинам, находящимся в самом искусстве, как менее умозрительным. Пейзажную живопись нельзя рассматривать независимо от другого направления, далекого от подражания как raison d'etre[90] искусства. В известных, правда ограниченных, пределах это направление было реакцией. В течение почти пяти столетий художники прилагали свое мастерство к подражанию природе. За это время были освоены и усовершенствованы многочисленные методы изображения, обретшие свою кульминацию в методе, который воспроизводил свет посредством нового сочетания науки и тонкости видения. К 1900 году наиболее склонные к риску и оригинальные художники утратили интерес к изображению реальности. В едином и энергичном порыве они отказались от имитации явлений природы.
Как я уже говорил, распространение фотографии, не способствовав рождению натурализма, вполне могло бы способствовать его кончине. Правда, к тому времени когда пейзажная фотография стала привычным явлением, практически все импрессионисты уже перестали писать в фотографической манере. И все же фотография поколебала общепринятое мнение, согласно которому искусство занимается прежде всего имитацией видимых явлений, а недостатки фотографии часто (хоть и не всегда честно) использовались апологетами абстрактного искусства. В определенном смысле фотография сыграла и более важную ролы она позволила художникам расширить сферу их эстетического опыта далеко за пределы непосредственного восприятия природы. Количество возможных решений стало значительно превосходить реальность. Так фотография способствовала появлению музейного искусства. Разумеется, еще со времен Ренессанса художники черпали вдохновение в музеях, но произведения, послужившие рождению великой традиции классицизма, были созданы в едином последовательном стиле. Они являлись частью признанного порядка, и зачастую именно их последовательность, а не красота отдельных вещей побуждала художников обращаться к ним. Но к концу XIX века музеи стали собирать произведения всех времен и стран; и художники, вместо того чтобы находить в них преемственность языка, начали отыскивать в каждом стиле работы, доставляющие удовольствие, названное эстетическим. Таким образом, музейное искусство — в том смысле, какой я вкладываю в это понятие, — предполагает чисто эстетическое восприятие. Оно предполагает, что ценность искусства зависит от мистической эссенции или эликсира, каковой можно выделить, почти выжать из тела или скорлупы произведения; к отысканию этого эликсира и следует стремиться.
Как ни опасен пуризм для любого искусства, наибольшую угрозу он таит для пейзажной живописи, ибо она всецело зависит от бессознательного отклика всего существа человека на окружающий его мир. Любопытно, что еще в 1822 году величайший ученик природы предсказал опасность музейного искусства, — тогда Констебл писал Фишеру: «Если возникнет Национальная галерея (о которой поговаривают), в бедной старой Англии придет конец искусству. Причина проста: тогда критерием совершенства картин станут их производители, а не Природа». Заявление Констебла несколько преувеличено (недавно он посмотрел «Коронацию Наполеона» Давида) и окрашено свойственной ему упрямой предубежденностью. Мы можем немного поправить его и сказать, что, когда художники начинают развешивать у себя в мастерских фотографии романской каменной резьбы, негритянских масок и каталонских миниатюр, непосредственный отклик на природу становится крайне затруднителен. Если мы начинаем воспринимать резьбу как эстетическую сущность, то в самом чистом и концентрированном виде находим ее в раннем Средневековье или в творчестве первобытных народов; показательно, что первым из художников, заявивших о своем стремлении к чисто эстетическому восприятию, был Гоген. В одном из писем 1880-х годов он писал: «Беря в качестве предлога какой-нибудь сюжет, заимствованный из человеческой жизни или из природы, я расположением линий и красок создаю симфонию, созвучия, которые не представляют собой ничего реального в общепринятом значении этого слова; они не выражают прямо никакой идеи, но, подобно музыке, должны заставить вас думать не идеями и образами, а посредством таинственных связей, существующих между нашим мозгом и именно таким расположением линий и красок»[91]. Именно Гоген придал экзотическому стилю жизнеспособность нового творения. Возможно, музейное искусство стало неизбежным еще со времени готического возрождения, но его ранние формы были сравнительно безобидны. Утонченные архаизмы Берн-Джонса были модны в слишком узком кругу, чтобы повлиять на ход развития искусства в лучшую или худшую сторону. Гоген не заимствовал средневековый реквизит, он заставил себя видеть символически. С каким трудом он этого добился, доказывает его бегство на Таити. Гогену пришлось предпринять далекое путешествие в пространстве, чтобы совершить путешествие во времени. Но он добился своего, и его таитянские пейзажи — подлинные преемники пейзажей шпалер XIV века (ил. 121).