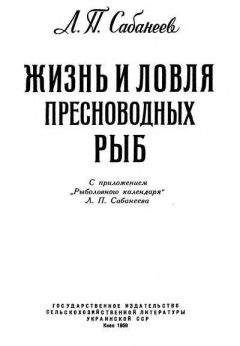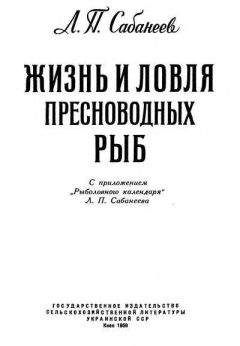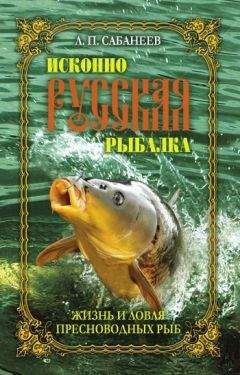Правда и то, что при всех своих ужасах русская революция была трагической и обреченной попыткой выволочь Россию из многовекового циклического, внеисторического существования. Из этого ничего не получилось — генетический код страны оказался сильней ленинских утопий, — но попытка вызвала к жизни великие надежды и великую культуру. Пожалуй, в России 1918 года было не только страшно, но и интересно. Пожалуй, без ленинской решительности и большевистского фанатизма Россия не потянула бы великую модернизацию, которая позволила ей в тридцатые годы стать ведущей индустриальной державой. Пожалуй, ленинское решение национального вопроса было одним из главных завоеваний советской империи, в которой пещерный национализм был объявлен вне закона, а окраины получили собственную письменность, культуру и науку. Словом, чего-чего, а величия замысла и при этом выдающихся способностей у него не отнять: отказываясь от лучшего в человеке, он по крайней мере не поощрял и худшего в нем. И кое-что из его наследия не худо бы перечитывать — по крайней мере в той его части, где он учит бороться с угнетателями и воспитывать себя для суровых противостояний, а также разоблачать бюрократов и демагогов, которых при нем расплодилось немерено. Главное же — он любил свою утопию больше, чем себя, и одно это делает его выдающимся явлением отечественной истории, которой на таких героев не слишком везло.
Человеческое в очередной раз оказалось сильнее бесчеловечного, и это внушает надежды. Но заложенная им империя была разрушена в восьмидесятые годы не столько человеческим, сколько скотским. Вот почему он до сих пор так популярен и воспринимается как надежда, а граждане бывшего государства рабочих и крестьян иной раз как скажут своим новым хозяевам, с полным, кстати, основанием: «Ленина на вас нет».
Пока нет.
3Он был, в общем, неплохой человек. Значительная часть моей жизни ушла на попытку понять: почему мне так кажется? В детстве и ранней юности меня успели задолбать канонизацией его залитого елеем облика. В девяностые успели нарассказать о его злодействах, нетерпимости и ограниченности. Сегодня его все чаще называют прагматиком, и одобряют это люди, с которыми стыдно совпадать хоть в чем-нибудь. Решительно все обстоятельства сложились так, чтобы я его терпеть не мог. Почему же я могу? В знак протеста? Но тогда почему этот протест не распространяется, скажем, на Сталина с Грозным? Почему Ленин для меня скорей в одном ряду с Петром? Почему ни его догматизм, ни зацикленность, ни презрение к человеческой жизни, ни полное отсутствие воображения, ни повышенный интерес к скучным материям вроде статистических выкладок не заставляют меня увидеть в нем чудовище, а стиль его публицистики и поныне кажется завидным? Над этими вопросами я размышлял лет с пятнадцати — и только недавно отыскал наконец критерий, по которому отличаю тиранов от реформаторов. Дело не в количестве жертв: оно в России соответствует масштабам страны и примерно одинаково во все переломные времена, независимо от того, опричнина ли мочит земщину, никонианцы — раскольников, красные — белых или солнцевские — тамбовских. Критерий прост и скорее визуален, нежели социален: реформаторов можно вообразить с бревном, а тиранов — нет.
Существует несколько канонических сюжетов, обрамляющих жизнь крупного русского госдеятеля, как клейма икону. Ленин и дети — пожалуйста, у нас все позируют с детьми, вплоть до известной истории с пупком. Крестьяне, пролетариат, солдаты — в их толпе органичен всякий, мера фальши и достоверности тут всегда одинакова: да, притворяется своим, но отчасти ведь действительно свой, терпим же… Вождь и животные — животное варьируется в зависимости от степени внешней угрозы: иногда надо позировать с конем, иногда с тигрицей, а в так называемые тучные годы можно и с котом (жесткий вариант — Лабрадор: домашний, но зверь). Только одна история не универсальна и, более того, редка: вождь и бревно. Одного можно представить в азарте артельной работы, а другого — хоть лопни.
Сталин и бревно? Помилосердствуйте. Из всего вещевого антуража к нему прилипли исключительно китель и трубка. Николай I и бревно?! Шпицрутен — это да, за что и был прозван Палкиным, но публично таскать тяжести, хотя бы и с Бенкендорфом? Николай II и бревно? — запросто, есть даже фотография; не реформатор, конечно, но и не садист, более всего озабоченный грозной державностью облика. Петр I? — ну, этот «на троне вечный был работник», причем любой работе предпочитал именно артельную, коллективную: строить корабль, тащить баржу с мели… Хрущев? Легко. Свидетельств нет, но допускаю. Брежнев? Да, но бревно должно быть пластмассовое или, как в анекдоте, надувное: готовная и даже радостная имитация деятельности, с минимальным напряжением, с последующей икоркой. Горбачев? Кстати, сомневаюсь: разве что вместе с ним это бревно носили бы Тэтчер и Рейган; со своими он соблюдал табель о рангах. А вот ранний Ельцин — свободно. Путин времен первого срока? Легко, особенно в провинции. Времен второго? Никогда: охрана загородила бы все, движение перекрыли бы в радиусе ста километров. Да и несолидно, несуверенно как-то. Медведев? Почему-то не представляю, как ни напрягаюсь: с компьютерной мышью смотрится, с бревном — нет. И это не по антропологическим параметрам (Ленин был примерно тех же габаритов), а именно по степени азартности: Ленин был азартен. Кстати, эта черта, как ни странно, редко сочетается со злодейством. Злодей расчетлив, он не увлекается — разве что чем-нибудь деструктивным, вроде публичных казней или битв, а чтобы с увлечением трудиться — это фиг. Ленин любил работу: есть масса фотографий, где он с увлечением говорит, читает, пишет, и в самом почерке его — стремительном, резко наклоненном вправо — страсть, скорость, азарт перекройки Вселенной, причем перекройки не имущественной, не военной, а онтологической, идейной, с основ… И с бревном, на субботнике, он смотрится; и чувствуется, что работать весной, с товарищами, в стране, которую он чувствует наконец своей — не в смысле собственности, а в смысле общих целей и ценностей, — ему в радость. Вот этот азарт, заразительность общего дела, счастье полного растворения в нем — будь то полемическая «драчка» либо пресловутый разбор завалов — в нем привлекательны, даже если знать обо всех его художествах, обо всех бесчисленных «расстрелять», учащавшихся по мере развития его несомненной душевной болезни.
Да, «ураган пронесся с его благословения», хотя и в этой пастернаковской формуле есть известная натяжка (ураган благословений не спрашивает, так что это скорее он благословил Ленина, а не наоборот). Да, он попытался воспользоваться русской историей, а она сама воспользовалась им для реставрации византийской империи — подозреваю, что именно это свело его с ума. Да, русское оказалось сильнее советского, но это советское по-прежнему кажется мне прорывом из замкнутого круга (я стараюсь не мыслить в категориях «лучше» — «хуже», потому что это слишком по-детски). Выскажусь даже откровеннее: в замкнутых исторических циклах (а мы в этом смысле не одиноки) результаты исторических катаклизмов, будь то закрепощение или либерализация, всегда более или менее одинаковы. Степень их кровавости — тоже. Ценными остаются ощущения, они и есть главный смысл, или, выражаясь скромнее, главный результат истории. Ощущения большей части населения при Сталине — отвратительны: это либо «радость ножа», как называл это Адамович, стыдная и оргиастическая радость расправы, восторг расчеловечивания, либо страх, обессиливающий и удушающий. Ощущения большей части сегодняшнего населения — разочарование, скепсис, тоскливое ожидание худшего при полном сознании своего бессилия, одинаковое презрение к соседям, начальству прошлому, настоящему и к самим себе. Ощущения большей части населения при Ленине — ни в коем случае не забываю о голоде, холоде, страхе, ненависти, сыпном тифе и прочих радостях разрухи — все-таки сознание величия эпохи. Азарт коренной переделки мира. Ярость и восторг борьбы — за или против, неважно. «Призвали всеблагие». И потому двадцатые дали великое искусство, а тридцатые — нет. Быть союзником или врагом Ленина одинаково душеполезно: это значит чувствовать силу ощущать в себе способность влиять на историю, делать, ковать ее, горячую. И не зря многие его враги впоследствии перебегали в стан его союзников (и наоборот, это было особенно заметно в десятые годы, когда он остался в почти полном одиночестве).
25 апреля. Родился Александр Шаров (1909)
Ауалоно муэло
К столетию Александра Шарова появилось несколько публикаций, вспомнили главным образом его сказки, книгу очерков о сказочниках «Волшебники приходят к людям», дружбу с Чичибабиным и Галичем — словом, раннеперестроечный набор плюс некоторая советская ностальгия. Очень хорошо уже и то, что о Шарове заговорили вообще. В конце концов, сборник его сказок и фантастики лежит без движения в «Астрели» уже год, предисловие написал Борис Стругацкий, книгу составил Владимир Шаров, которого, слава богу, никому представлять не надо и который приходится А.И. родным сыном, доказывая, что природа отдыхает на детях далеко не всегда (кстати, почему-то именно у детских писателей эта закономерность срабатывает редко: дети Драгунского — Денис и Ксения — ничем не уступают блистательному отцу, Николай и Лидия Чуковские писали отличную прозу, и как бы я ни относился к братьям Михалковым, бездарями их не назовет и заклятый враг). Теперь, может, дело сдвинется, и сказки его, не издававшиеся двадцать лет, вернутся к читателю; но вопрос о шаровском чуде, о его механизмах остается. Множество читателей моего поколения опознавали свой, так сказать, карасс по цитатам из «Ежиньки» или «Мальчика-одуванчика», но я никогда не задумывался, почему так выходит и в чем вообще шаровское ноу-хау. Я просто читал все, что у него выходило, — не только сказки, разумеется, но и фантастику, и взрослую реалистическую прозу, и воспоминания. В детстве особенно точно опознаешь все качественное — ребенок, хоть ты его выпори, не станет читать тухлятину, у него собачий нюх на подлинность, до всякой рефлексии. Скажем, дочь моя легко и без всяких понуканий читает Пелевина с девятилетнего возраста, Алексея Иванова — с двенадцатилетнего, а там подоспели Кафка с Акутагавой, тогда как читать девчачьи любовные романы или женские детективы ее не заставила бы никакая сила. Я читал Шарова и плакал над его прозой, совершенно не задумываясь, «как это сделано», и с тех пор не успел задать себе этот вопрос. Попробуем хоть сейчас.