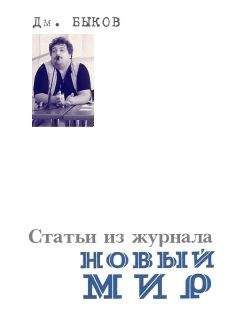Что же делать — нет, не утонченной женщине в грубом мужском мире, а сложному существу в мире двухмерных сущностей? Что делать человеку восьмидесятых в мире двухтысячных? Москвина предлагает две версии; одна наглядна и составляет главный сюжет романа — героиня разрушает себя и окружающих, потому что ужиться они не способны, а без угрызений совести уничтожать мир Зимина все-таки не умеет, не киллер, чай. Тут уж если гибнуть, то вместе. Второй выход едва намечен:
«Я замечала не раз любопытную вещь. Когда о жизни, о мире, о человеке, о России говорят подлинные работники, скажем, опытные врачи, настоящие ученые, авторитетные преподаватели, они весьма осторожны в речах. Они не отзываются с пренебрежением о природе человека, не перечеркивают ни русского, ни мирового пути. Но вот нарисуется на сцене какой-нибудь пузырь земли, командированный в Россию на должность черта лысого, обыкновенного, или свинья в ермолке, отхватившая впотьмах кус имущества… и как из рога изобилия: Россия закончила свой исторический путь! Потеряла значение! России не нужна свобода! Россия — страна идиотов и рабов!
Оно и понятно, коли Россия закончила путь, так чего стесняться, на кого оглядываться? Хватай, не зевай… Надо бы себе какое-то тяжелое и полезное занятие придумать. Надо выбираться из одиночной камеры к людям. Как ни соблазнительно высокомерие, как ни привлекательна гордость — это, я знаю, далеко не высший этап развития существа».
Конечно, отсюда недалеко и до другой крайности, тоже имевшей место в конце двадцатых — начале тридцатых: «Но, как в колхоз идет единоличник, я в мир вхожу — и люди хороши». Незачем так-то уж повторять путь русского интеллигента, который пошел к этим людям, напридумывал себе кучу тяжелых и полезных занятий — и в результате потерял себя. Но о том, что эсхатологизм — дурной тон, что большинству ораторов этого толка хоронить Россию нравится именно потому, что в эпоху бардака и распада личная ответственность испаряется, все у Москвиной сказано совершенно точно. И героиня, кстати, с самого начала понимает, что одним высокомерием царство Божие не стяжается — хотя малая толика высокомерия необходима. Главное — все-таки отчаянная попытка спасти все, что осталось живого. Вот хотя бы талантливую девочку Лизочку, которая тоже ведь периодически ненавидит весь мир — но в свободное время придумывает восхитительные истории про красные фантики и ананасы. Не цитирую, дабы не выковырять для читателя весь изюм из этой сайки. Но таких Лизочек чрезвычайно много, свидетельствую лично, и талантливых мальчиков в диапазоне от восемнадцати до двадцати тоже полно, и деваться им точно так же некуда, как и Зиминой. Вопрос: помогать им печататься, приспосабливать к газете, поощрять в литературных (сценарных, театральных) занятиях — или, чтобы не чувствовать себя крысоловом, ориентировать на прагматизм-конформизм? Тут каждый выбирает сам, и лично я одобряю выбор Зиминой: искусство не гарантирует Лизочке денег и статуса, зато, как видим, спасает ее личность. А ничего другого, кажется, оно не должно делать в принципе.
Преодоление «эсхатологизма» и есть тот единственный путь, который нам остается. У книжного ребенка, воспитанного «на идеалах» (не социальных, а общекультурных), в мире победившей блатоты не так много вариантов. Первый продемонстрировала Александра Зимина, проткнувшая глобус и истекшая кровью в ванне. Второй осуществила Татьяна Москвина, написавшая один из лучших русских романов последнего времени. Меньше всего хочется повторять самозаклятия вроде «в этой жизни помереть не трудно». Но то, что «сделать жизнь значительно трудней», остается фактом.
Повторю напоследок. Известно, что талантливые люди прекрасно делают то, что умеют и любят, но очень посредственно — много ниже среднего уровня, доступного любому поденщику, — справляются с заказухой и прочими подневольностями. Некоторые способны приноровиться, некоторым заказуха вообще заменяет смысл жизни (как Маяковскому), но результат нагляден. В романе Москвиной местами просто видно, как проза мстит за себя. Может, нам всем пора уже понять, что нелюбимые и навязанные нам вещи не приносят ни денег, ни славы, — а любимые и приятные способны в конце концов спасти и нас, и окружающих? Если бы роман «Смерть — это все мужчины» был только иллюстрацией этой простой мысли и никаких других смыслов не содержал, он бы за одно это заслуживал звания книги года.
№ 7, июль 2005 года
Как ездит эросипед Жолковского
А.Жолковский. Эросипед и другие виньетки. — М.: Водолей Publishers, 2003. - 624 с.
А.Жолковский. Новые виньетки // «Звезда». - 2005. - № 3.
Александр Жолковский в одном из интервью усомнился в своем писательском профессионализме, заметив, что в филологии чувствует себя увереннее — и по крайней мере понимает, как у него получаются научные тексты, тогда как писательские по-прежнему образуются сами собой, неотрефлексированно. Большинство литераторов, однако, полагает, что как раз прозу Жолковский пишет лучше, и пусть бы он только этим и занимался. Один из лучших российских поэтов категорически заявил, что все структуралисты — и даже Жолковский, претендующий быть «хорошим структуралистом», — в поэзии ничего не понимают, а вот «виньетки» — чудесный жанр, в котором А.Ж. наконец нашел себя. Понятно нежелание авторов подвергаться исследованию в жолковской манере — обнаруживать свои инварианты, или, говоря обыденно, лейтмотивы; все мы, включая Пастернака, Ахматову и Лермонтова, гораздо комфортнее почувствуем себя, когда автор «Эросипеда» окончательно переключится на виньетизм. Так что личное пристрастие автора этих строк к «виньеткам» — если уж докапываться до истинных причин — мотивируется, вероятно, именно подспудным желанием расстроить ряды структуралистов, чтобы еще один из них перестал отслеживать чужие инварианты и начал выкладывать свои.
Если говорить серьезно, «Виньетки» в самом деле хочется иногда анализировать в манере Жолковского — он и сам весьма склонен к пародии, и такие его мини-рассказы, как «Посвящается С.», являют собою язвительную пародию на Борхеса, а «Семнадцать мгновений весны» изящно пересмеивают диссидентские мемуары о подпольном героизме семидесятых (хочу подчеркнуть, что нимало не преуменьшаю этого героизма — скорее уж его снижает Жолковский, и то в своем личном случае). На «Эросипед» уже написана вполне виньеточная, точно копирующая авторские интонации и учитывающая любимые словечки рецензия Андрея Зорина. Ему — при большом опыте личного и профессионального общения с автором — сам Бог велел написать нечто подобное, домашне-семантическое. Мне же кажется более продуктивным отойти от методов структурного анализа, которыми я вдобавок и не владею, и поговорить о чисто человеческом обаянии этой прозы; о том, почему ее приятно читать, возить с собой в метро, откладывать на вечер; о том, наконец, почему ее автор умудрился стать — как пишут о нем решительно во всех рецензиях — enfant terrible среди антиистеблишмента, диссидентом в диссидентах, пятой колонной в структуралистах. Проще всего начать с последнего вопроса: тут, мне кажется, минус на минус дал плюс. Жолковский остается более-менее чужим среди представителей господствующего ныне дискурса главным образом потому, что он человек душевно здоровый и вообще, так сказать, хороший — то есть менее всего озабоченный доминированием, непрерывной демонстрацией превосходства, унижением и расчленением литературы. У него вообще нет перед нею комплекса неполноценности, заставляющего деконструкторов непременно обнаруживать в тексте либо инцестуальную, либо анальную подоплеку. Нет у него и патологического интереса к «срамному низу», — вероятно, потому, что этот интерес вполне удовлетворяется в бытовой сфере и профессиональную уже не затрагивает.
Говоря по-русски, «Эросипед» — книга восхитительно нормального человека. Эта нормальность почти оскорбительна на фоне тотального «подполья» современной отечественной словесности, да и критики. Автор сам не перестает удивляться ей, и то, что иным его собеседникам (да и ему самому) кажется подчас нарциссизмом, — есть не что иное, как удивление перед собственным здоровьем, способностью к новым перемещениям, жадностью к впечатлениям и стойкой доброжелательностью. Ничто в биографии Жолковского к такому результату не располагало; иной читатель вправе подумать, что автору всю жизнь везло, — Игорь П. Смирнов однажды высказал именно такую версию, — но любой, кто ознакомится с виньеткой «А поворотись-ка, сынку!», усомнится в безоблачности его пути. Больной желудок, язва, глотание гастроскопа, вторжение ректоскопа с другой стороны — вообще важный инвариант у Жолковского, причем только в советском периоде его записок; на Западе, кажется, у него сразу все прошло, и буквальный толкователь несомненно сделает отсюда вывод, что именно советская власть вторгалась то в пищевод, то в анус повествователя. Нам же важно его умение лучше всего (и уж точно смешнее всего) описать наиболее униженное и непрезентабельное свое состояние. С той же мерой легкости и веселья описывает автор свои халтуры, а также сотни бытовых унижений, выпадавших на его долю; расставание с женами, переезды, перипетии американского трудоустройства — все в том же легком, танцующем стиле, так что радость, испытываемая читателем, никак не предопределена биографией пишущего. Это все врожденная способность Жолковского превращать собственную жизнь в непрерывный праздник — в чем филология служит замечательным подспорьем, поскольку рассмотрение жизни как текста есть уже посильное отстранение от буквальных, ежесекундно царапающих ужасов повседневности.