Встречи с Пушкиным, Жуковским, Гоголем, свидание с любимыми братьями Федором и Александром грели сердце, сглаживали тягостность впечатления от визита во дворец, от суетливой толпы, от этих неуместных среди художников тостов «за начальство», от этой полковой музыки, пусть и в его честь, но так бравурно, кощунственно звучавшей в стенах Академии…
Давать себе отдых Брюллов не имел намерения: 11 июня отгремели торжества в Академии, а ровно две недели спустя, 25 июня, он уже снова в дороге. Вместе с Ф. Солнцевым, бывшим своим соучеником, Брюллов собирается в Псков, чтобы окунуться в атмосферу тамошней земли, своими глазами увидеть город, место жестокой битвы русских с войсками Стефана Батория. Перед отъездом художники решили заехать на дачу к Оленину в его имение Приютино, отстоявшее от Петербурга на восемнадцать верст. В Приютино прибыли часам к шести, как раз к обеду. Приютино и впрямь было приютом для многих художников и литераторов столицы. Тут хозяин словно бы сбрасывал с себя мундир ретивого служаки, представал перед гостями лучшими сторонами своей богато одаренной натуры. Жена его, Елизавета Марковна, как всегда, была радушна и приветлива. Завсегдатаем Приютина был одинокий и бесприютный Крылов. Часто бывали Жуковский, Гнедич, Пушкин. Брюллова Оленин встретил так, словно меж ними и не было никогда размолвок и недоразумений. Обсуждал с ним тему будущей картины, советовал, на что обратить особое внимание в Пскове, подсказал, что там, в Покровской церкви, хранится икона XVI века, в клеймах которой безымянный мастер изобразил эпизоды осады Пскова, а в Печорском монастыре Брюллов может посмотреть плащ Ивана Калиты и конскую упряжь, принадлежавшую самому Ивану Грозному.
В Псков путники прибыли поздней ночью. Поутру отправились гулять по городу. Брюллов вспомнил, что где-то здесь обитает его дальний родственник, полковник Башарулов. У Башаруловых и завтракали, и обедали. Обед на радостях так затянулся, что незаметно перешел в ужин. Так и просидели за столом всю ночь напролет. Назавтра вновь пошли осматривать достопримечательности. На бульваре повстречали весьма приметную личность — маленький горбатый старичок с важностью вышагивал им навстречу. Поровнявшись с художниками, он спросил: «Кто вы такие?» Брюллов и Солнцев представились. «Вас-то мне и надо. Я — здешний губернатор, Алексей Никитич Пещуров. Отчего ко мне не пришли?» — сказал старичок и, не слушая отговорок, увлек художников к себе домой. Вновь допоздна тянулось томительное застолье, провинциально-светские беседы с чопорной губернаторшей и манерными барышнями Пещуровыми. Брюллов исподволь поглядывал на хозяина — ведь это тот самый Пещуров, который во времена Михайловской ссылки Пушкина был Опочецким предводителем дворянства, которому было поручено властями вести наблюдение за опальным поэтом. Именно он по приказу тогдашнего губернатора маркиза Паулуччи вызвал к себе растерянного Сергея Львовича и препоручил ему надзор за собственным сыном. Еще дотошнее разглядывал бы Брюллов хлебосольного хозяина, если б мог знать, что ему же, Пещурову, будет скоро предписано обеспечить «невстречу» тела погибшего Пушкина кем бы то ни было, когда А. Тургенев повезет гроб поэта из столицы в Святогорский монастырь… Жизнь постоянно сталкивала Брюллова с людьми, так или иначе причастными к судьбе поэта. Не было ничего удивительного, когда это касалось людей заметных, как братья Тургеневы, либо людей искусства — художников, писателей. Не так уж много было их тогда в России, и большинство из них имели знакомство меж собой. Удивительнее, что и с людьми не столь приметными, но игравшими не последнюю роль в жизни поэта, Брюллов тоже встречается на жизненном пути: у маркиза Паулуччи он юношей был на обеде — в Риге, по пути в Италию, затем столкнулся в Одессе с четою Воронцовых, а теперь вот и со столь мало приметным человеком, как Пещуров, имя которого и сохранилось-то в памяти лишь благодаря сопряженности с именем Пушкина…
От бесчисленных званых обедов и вечеров — все псковское общество радо бы залучить к себе знаменитого художника — Брюллов ходил по городу вялый, хмурый, рисовал мало, по словам Солнцева, «напачкал только карандашом воздух…» Ни старые стены псковского кремля, ни поездка в древний Печорский монастырь не пробудили радостного возбуждения. Озарение, как когда-то, там, на развалинах Помпеи, нынче, увы, не посетило его. С самого начала работа над картиной пошла не так, как ему хотелось бы, и поездка на место события, обращение к немым свидетелям былого — древним псковским стенам, не оправдали возложенных надежд.
По возвращении в столицу Брюллов закружился в суете вседневных дел. Поместительная квартира покойного ректора Мартоса — в несколько комнат окнами на Неву — была готова встретить нового хозяина. Надо подыскать хоть что-то из мебели, приобрести разные обиходные предметы, ведь впервые в жизни Брюллову предстояло жить не в снятом у хозяев углу, а в своей квартире. Теперь можно разобрать итальянский багаж, разложить рисунки, развернуть холсты, расставить книги. Правда, вида обжитого и уютного брюлловская квартира так и не обретет за все последующие тринадцать лет, не владел он этим даром «домашности». В холостяцком его жилище у всех будет создаваться впечатление, будто хозяин только что въехал, едва расположился, а привести все в надлежащий порядок еще не нашел времени.
Хлопоты всяческие, дела, заботы почти не оставляли досуга. Пора приступать к обязанностям академического профессора исторического класса. Надо начинать работу над «Осадой Пскова», тут воля не только своя — царская. Навестить родных. Отдать обязательные визиты. Больше всего хотелось закрыться в мастерской и работать, писать то, к чему лежит душа, без обязательств и принуждения. И он найдет время работать для себя. Еще до конца 1836 года, за несколько коротких осенних месяцев, он поспеет написать несколько отличных портретов. И еще одного страстно жаждет сейчас, дома его душа: встреч с людьми, общения, узнавания теперешней России. Ему интересно все — новинки отечественной словесности, как работают нынче русские собратья по кисти, какие новые имена появились на театре. А больше всего — какие новые веяния родились в обществе за время его отсутствия.
А нового — всюду, во всем — было много. Особенно тот, 1836 год был необычайно «урожаен» на ниве искусства. Заметным событием стал портрет самого Брюллова, писанный в Москве Тропининым. Граф Федор Толстой в том году завершил многолетнюю работу над серией медальонов, посвященных Отечественной войне; несколькими годами ранее, когда серия близилась к окончанию, великий Гете, наслышанный о ней, прислал автору самый лестный отзыв о его творении. А сколько толков вызвала состоявшаяся на сцене Александрийского театра в апреле, 19 числа, премьера гоголевского «Ревизора». О премьере и о событиях вокруг нее рассказывали все наперебой — и друзья-приятели, и сам Гоголь в ту единственную встречу. Пришедшая на премьеру «Ревизора» петербургская публика, по сути дела, впервые оказалась лицом к лицу с самой Россией, представшей со сцены в трагически гротескных образах Гоголя. Несколько лет жизни в Петербурге, чиновно-чинном, холодно-враждебном, ретиво-административном, развеяли юношеские иллюзии молодого писателя, так желавшего поначалу в государственной службе утолить свою высокую жажду труда на благо отечества. Пьеса называлась «комедией», и Жуковскому удалось уговорить царя, что насмешки автора над плохими провинциальными чиновниками вполне безобидны и благонамеренны. Комедии царь любил, трагедий и драм попросту не выносил. Об этом метко скажет маркиз де Кюстин: «Драма здесь разыгрывается в действительной жизни, и театр предоставляется водевилю, никому не причиняющему страха». И еще: «Пустые развлечения — единственные, дозволенные в России». Царю, однако, достало проницательности за веселым комизмом ситуаций разглядеть острые шипы сатиры. После премьеры, выходя из ложи с престолонаследником, он произнес: «Всем досталось, а мне больше всех». И до постановки пьесы, и после премьеры автору пришлось полной мерой вкусить неприятностей, упреков и даже прямых угроз. Щепкину, готовившемуся тогда выступить в роли Городничего в Москве, Гоголь сообщает о петербургском приеме, оказанном «Ревизору» официальными кругами: «Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтеные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; полицейские против меня, купцы против меня; литераторы против меня. Бранят и ходят на пиесу; на четвертое представление нельзя достать билетов». Вся реакционная пресса — Булгарин, Греч, Сенковский, все монархически настроенные личности видели в пьесе «подрыв государственной машины». Находились и такие рьяные охранители «нравственности», которые требовали автора арестовать и сослать… С горьким чувством Гоголь восклицает: «Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым бы даже квартальный не мог обидеться. Но что комедия без правды и злости!» С такими чувствами гениальный писатель покидает родину вскоре после встречи с Брюлловым, 6 июня 1836 года.
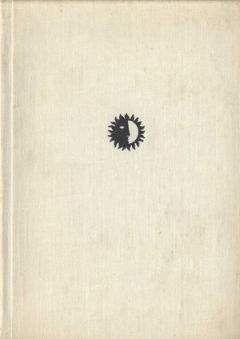

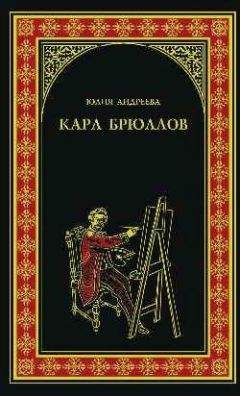
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)
