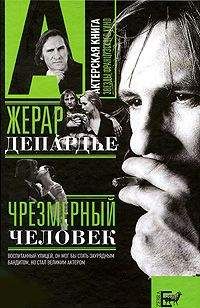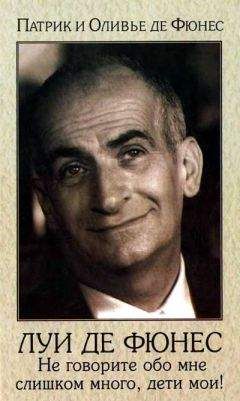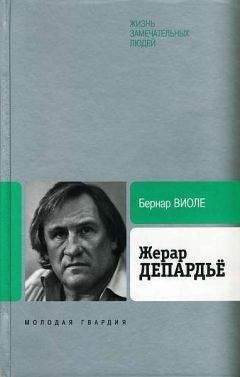Нет ничего более волнующего, чем сбор урожая. Это праздник. Впереди – сам урожай, позади – год ожидания его, страхов перед тем, что небо будет неблагожелательным, что разговор Бога с землепашцем превратился в трагедию.
Ну как мне обойти молчанием мою бабку с ее луком-пореем… Она жила в маленьком бараке сразу за посадочной полосой аэропорта Орли. В ночном горшке она хранила удобрения. Потом поливала ими землю и выращивала отменный лук, фирменный. Сам процесс превращался в замкнутый круг: мы исторгали из себя лук, чтобы затем отправлять его в землю, чтобы питать ее нашим дерьмом, и так далее.
На земле еще водятся животные. Я обожаю выводить кур, а затем есть их. Вот свинья – совсем другое дело. К свинье нельзя привязываться. Иначе – хана! Это очень умное, очень смешное и верное, как собака, животное. Если ты начнешь выражать ей свою симпатию, все пропало: она будет следовать за тобой по пятам. Я согласен с теми, кто говорит, что человек начинает в конце концов походить на того, кого ест. Крестьяне правы. Достаточно посмотреть на колбасников, они все похожи на печенку.
Я слишком пропитался соками земли, чтобы любить город. Город напоминает холодную и сырую комнату. Город превращает меня в злого человека, страдающего клаустрофобией. Нет, самое прекрасное, чем может обладать человек, это земля. Зачем она? Чтобы бродить по ней, голова садовая!
Эпилог Письмо последнее.
Отец выбрал для своей смерти это последнее письмо. На смертном одре он выглядел человеком, который не в силах поверить, что он умер. Рот был открыт. Я не обделен силой, но мне стоило труда закрыть его. Со своим открытым ртом он и отправился на Небо. И теперь может поделиться с Лилеттой теми мыслями, которые у него накопились за пять месяцев, с тех пор как она умерла.
Удивление, потрясение в его взгляде напоминало мне точку с запятой, повисшие в воздухе. Мне думается, что он что-то увидел, уходя от нас. Я долго сидел рядом с ним посреди ночи. И внезапно увидел совсем другое лицо, возможно, из прежней или будущей жизни.
На другой день я отправился повидать Жана, винодела. Люди останавливали меня на улицах Буживаля, чтобы поздравить: накануне меня наградили орденом.
– Поздравляю, Жерар! Вот здорово!
– Спасибо, конечно. Сегодня ночью у меня умер отец.
– Ну, знаешь… так быстро…
И это повторялось раз десять. Я не успевал сыграть переживание. Я не был взволнован, я был потрясен, черт побери! В конце концов я стал смеяться.
Я с удовольствием выпил рюмочку с Жаном. Его дочь Катрин была с нами. Она сходила за ветчиной. Из холодильника я достал здоровенный кусок постного мяса. Я позвонил Жану Карме. Мне хотелось почувствовать себя в окружении отцов. Я достал фотографии, сделанные на церемонии в Елисейском дворце, где я рядом с виноделом Жаном. Их стали рассматривать.
По дороге домой я слегка полаялся с дамочкой, которая вышла на улицу исключительно для того, чтобы попортить людям кровь. Она утверждала, что машина моего друга скульптора Патрика мешает выезду.
– Он сейчас вернется. Пошел купить ящик вина.
– Он мешает выехать другим!
– А где эти другие? Где они? Говорю вам, он сейчас придет.
Тогда она улыбнулась. И тотчас жизнь перестала быть такой значительной. Приветливо помахала мне. Подъехав к своему дому, я остановился немного дальше, как раз напротив Альсидов. Альсид всю жизнь провел под землей, работал в канализационных люках. Он с трудом приспособился к жизни на поверхности, к жизни при свете… Он подхватил рак языка и, не переставая, стонал, жаловался, уверяя, что завтра помрет.
– Вот отец мой никогда не говорил о смерти, а помер. Постыдился бы ты со своей цветущей рожей говорить такое.
Мимо нас прошла, шаркая, старушка. Я поздоровался с ней. Она ничего не ответила, пошла дальше. Но хотя она и не произнесла «здравствуйте», в тот вечер она была живым воплощением этого слова.
Я вошел в дом, посмеиваясь. Дома была моя сестра Элен. Брат Франк и его жена Натали тоже дожидались в маленькой гостиной. Я вошел в тот момент, когда Элизабет уговаривала Элен говорить «умер», а не «почил». Умер, умирать, «умиеть», как говорят дети. Посмотрев на сидевшего с кислым видом Франка, я заорал: «Твой отец умер! И точка!» Все заулыбались. На обед у нас была телячья ножка. Франк по-прежнему напоминал Пьера Этекса[41] в трауре. Его жена начала рассказывать, как они провели отпуск в горах. Как катались на лыжах. Перед самым уходом Франк стал вспоминать о последнем посещении отца.
– Отец просил принести ему шнур. Сказал, что он лежит в шкафу, но я не нашел. А увидев, что мы засобирались, произнес: «Не уходите. Останьтесь еще немного». И взял меня за руку.
Сидевшая рядом Натали покачала головой: «Мы даже удивились, когда он так сказал. Обычно, он как мой Франк: здравствуй, как дела?!! Я сказал Франку, что унес его к Натали в своем „багаже“.
Я чувствовал себя хорошо, ощущая силу настоящего времени. Больше всего я боялся после смерти отца и Лилетты потерять ощущение их присутствия в нашем настоящем. Оно обладает силой именно потому, что оно есть. Это то, что называется жизнью. С ее запахами и болезнями. Одна смерть похожа на другую, один уход – на другой. А вот наше настоящее подобно огню, оно обжигает. Оно мешает остановиться. Любить прошлое – сомнительное дело. Я не хотел бы походить на свои воспоминания. Правилом в жизни моих родителей было время, биение сердца часов – тик-так, тик-так.
Смерть их обоих была для меня подарком. Мы никогда не умели разговаривать друг с другом, не причиняя боли.
На Рождество у меня была голая елка. Без подарков. Я родился 27 декабря… Я не собирался говорить об этом… Еще скажут… В общем, Лилетта не хотела меня, она часто рассказывала мне об этом. Я родился через два дня после Рождества. Она никуда не могла уехать, она не получила подарков, ибо Рождество 1948 года принесло ей только боль, вероятно, сильную боль. Она говорила мне, что, давая мне жизнь, она словно лишала себя оной. Мое рождение было похоже на ужасный рождественский подарок. Подарок для бедных: ботинок с апельсином внутри. По мне – самый прекрасный подарок.
Теперь с этим покончено. Их смерть подобна ранцу, который выпал из рук. Это значит, что теперь я буду ездить без багажа. Станет легче. Но с каждым уходом путешествие сокращается. Смешно сказать, я кончаю эту книгу с чувством облегчения. Я не понимаю попугаев, которые трещат о страхе перед листом чистой бумаги. В этом листе нет ничего страшного. Меня больше пугает исписанная страница, почерневшая от строчек, она впечатляет. Да, именно так: я испытываю страх перед написанной страницей.
Из интервью в «Синема Франсе»(№ 35, 1980)
Депардье. После «Вальсирующих» мне пришлось бороться, чтобы избежать ролей «симпатичных подонков», которые стали предлагать со всех сторон. Одновременно я стремился сохранить преемственность с другими, очень разными ролями. Все равно пришлось сняться в большем числе ролей подонков, чем можно себе представить. Это – и амбициозный врач в фильме «Семь смертей по одному рецепту», и аристократ-жулик в «Сахаре» и дрессировщик в «Собаках». Разве они в какой-то мере не подонки? Как впрочем, и «Тартюф» Мольера, роль которого я играю в театре.
Я часто интересовался отрицательными персонажами, в которые страстно хотел вдохнуть жизнь, эмоции, двусмысленность, чтобы получился новый, помимо всего, характер. Теперь, возможно, я обращусь к более положительным образам.
Очень важно, чтобы каждый режиссер рассказывал в кино историю, как ему это хочется. Иногда для этого необходимы значительные средства, в других случаях – нет. Маргарите Дюрас не потребовались миллионы, чтобы снять «Грузовик». Зато для съемок «1900» («Двадцатый век») Бертолуччи понадобились огромные деньги.
Я не нахожу ничего унизительного, снимаясь в картине, которая делает большие сборы – «Семь смертей по одному рецепту» или в фильме, который нравится американцам – «Приготовьте носовые платки». А вот «Тартюфа» вместе с Франсуа Перье мы будем играть не в Государственном театре, на субсидии, а в частном театре.
«Мой американский дядюшка» – история более интимная и более психологически тонкая, чем «Грозовая Рози». Три персонажа фильма принадлежат к трем разным социальным группам. Роже Пьер – состоятельный буржуа, Николь Гарсиа – рабочая коммунистка, а я – крестьянин-католик. Женщина работает с одним из них и спит с другим. Каждый переживает кризис, эволюцию и развязку. Ален Рене касается также темы заторможенности сознания. Все это в одной строчке не резюмируешь. В любом случае фильм будет весьма любопытным.
А Трюффо («Последнее метро») просил нас не рассказывать сюжет. На него сердиты за то, что он не пустил журналистов на съемку, а ведь его можно понять. В этом фильме, где события происходят в эпоху оккупации, ему надо, чтобы актеры весь день жили в обстановке подполья, которая напоминает то, что было в истории. И поэтому работа идет очень плодотворно. Запертые весь день в театре, одетые по моде 1942 года, мы испытываем чувство, будто перенеслись на корабле времени на 38 лет назад. Поэтому игра всех актеров выиграла в подлинности.