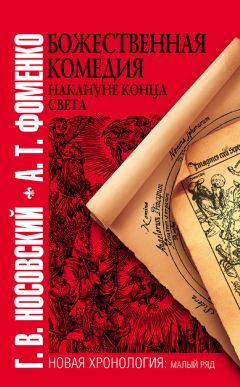Любовь любит любить любовь. Няня любит нового аптекаря. Полицейский 14А любит Мэри Келли. Герти Мак-Доуэлль любит этого мальчика с велосипедом. М. Б. любит прекрасного джентльмена. Ли-Чи-Хан любить-любить целовать Ча-Пу-Чоу. Джумбо, слон, любит Алису, слониху. Старый м-р Верс-койль со слуховым рожком любит старую м-с Верскойль с косым глазом. Человек в коричневом плаще любит Лэди, которая умерла. Его величество король любит ее величество королеву. М-с Нормэн В. Таппер любит офицера Тэйлора. Вы любите кого-то. А этот кто-то любит еще кого-то, потому что каждый кого-нибудь любит, но Бог любит всех.
Или:
— Если бы могли только питаться такой хорошей пищей, как вот эта, сказал он ей громко, — наша страна не была бы полна гнилых зубов и гнилых внутренностей. Живем в болоте, едим дешевую пищу, а улицы покрыты пылью и т. д.
Или:
Какова была их цивилизация? Пространна, я согласен, но презренна. Клоаки: канализационные трубы. Иудеи в пустыне и на вершине горы говорили: "Здесь подобает быть. Воздвигнем алтарь Иегове". Римлянин, как и англичанин, который следует по его стопам, приносил на каждый новый берег, на который ступала его нога, только свою канализационную манию. Он в своей тоге осматривался вокруг и говорил: Здесь подобает быть. Давайте построим ватерклозет.
Нет ничего алогичней логики, этой высшей формы обмана, ямы для простаков. Ненавижу примитив! Вот вам добродетель, а это — сатанинские стихи, делайте как я — и вас ждет награда. Дрессированный гомо сапиенс.
Но добро и зло неразделимы — они даже не переходят друг в друга, как того требует наша ньюевангелическая — нет, пресвятая! — диалектика. Они одно (открытие XX века). Нет абсолютов и ориентиров нет тоже: гениальные вожди и всечеловеки, оказавшиеся величайшими головорезами, и распятые, растерявшие совесть… Спорно и сомнительно уже всё. Хаос. Нет, Елена не случайно исчезает из Улисса, ведь она — прекраснорожденная из Хаоса. Но Джойс мудрее Гёте. Он знает: из Хаоса не рождается прекрасное, прекрасное придумываем и творим мы. Чаще придумываем, чем творим. Ибо творить — раритет из раритетов… Но зато творящий способен на невозможное. Он творил красоту из уродства, как его предшественники цветы из зла. Уродство правды он переливал в красоту…
Что есть Улисс?
Конец героической истории человечества и — осознание себя. Один день трех героев и — вся культура. Жизнь без покровов, которые тридцать столетий натягивала на себя культура, и — душа… Отброшены все тотемы и все табу только правда, какой бы она ни была. Но простой правды не было и нет. Не потому ли так сложен Улисс?
Да, Джойс трудный писатель и читать его нелегко. Чаще всего то, что легко писать, легко и читать — отсюда безбрежный океан никчемности, захлестывающий культуру. Джойс же знает иную истину: каков мир — таково искусство. Но даже эту имманентную сложность поименовали темнотой и бросили ему в лицо: "…и тогда, перенеся свои творческие промахи на мировую ситуацию, Джойс и решил заставить читателей "трудиться" над книгами вместе с автором, вернее вместо него".
Что есть Улисс?
Улисс есть всё, воплощение плюрализма: от тотальной сатиры а 1а Свифт ("Я не могу писать, не оскорбляя людей") до натуралистической ирландской комедии ("юмора у пивной стойки"), от поэтического эпоса ("после которого уже никакие эпосы невозможны") до символической травестии, от неверия трагического сознания до катарсиса в Аристотелевском смысле. Такова и атмосфера Улисса: от иррационально-мистической жути до рациональной объективности. Хаос? Да, но он рассчитан и выверен этот хаос — рассчитан и выверен, как жизнь. "Трагикомедия интеллекта, материи и плоти".
Что есть Улисс?
Пародия на Одиссею и настоящая, подлинная безумная одиссея человека XX века, за один день совершающего всё то, на что Улиссу потребовались 20 лет.
Чу! внимание! Важная мысль! Однажды Джойс в сердцах бросил: "Жаль, что публика будет искать и находить мораль в моей книге, и еще хуже, что она будет воспринимать ее серьезно. Слово джентльмена, в ней нет ни одной серьезной строчки, мои герои — просто болтуны".
Среди множества правд об Улиссе есть и такая: ядро культуры и шутка одновременно!
В конце концов, и тот, первый Улисс, был прежде всего человек, которому ничто человеческое…
— Что нас больше всего поражает в Одиссее? Медлительность, с которой возвращается Одиссей, то, что он тратит на возвращение домой десять лет… и в течение этих лет, несмотря на любовь к Пенелопе, о которой он так много говорит, он пользуется всяким удобным случаем, чтобы ей изменить.
И вот Одиссей — мистер Блум, Пенелопа — его жена Молли, Телемак Стивен, Антиной — Маллиген, Афина — старая молочница, Дизи — Нестор, любовник Молли Бойлан — Эвримах, молоденькая девушка на пляже — Навсикая, трактирный оратор и ирландский националист — Полифем, содержательница публичного дома — Цирцея, издатель газет — Эол…
Миф Джойса — это и супермиф и травестия на него. Блум — измельчавший за тридцать веков Одиссей эпохи торжествующего прогресса, развратная Молли то, во что превратилась Пенелопа, символ женской верности, добровольно порвавший с семьей Стивен — преданный роду Телемак.
Нет, нет, здесь что-то не так, не та тональность… Постольку, поскольку история неизменна, гомеровский эпос, гомеровская героика не более, чем инфантилизм юного человечества. История Блума, Молли, Стивена как бы не имеет отношения к Гомеру, но во все времена является единственно значимой историей: жизненные перипетии отношений мужа и жены, конфликт Стивена с Маллиганом и со всем миром. Дело вовсе не в том, сколь глубоко связан Одиссей с джойсовским Блумом, сколько в дегероизации Гомера, в той глубинной правде жизни, которую он упростил или утаил. Время героических мифов и иллюзий кончилось, место внешнего мира заняла правда внутреннего, место геофафических странствий — тончайшие движения души, правда тела.
Где-то я писал, что на месте мифа возник антимиф. Это не вполне точно. Миф обладает глубинным измерением, выражает скрытую человеческую суть. Лучше сказать: место мифа занял сверхмиф — не столько даже "ироническое переосмысливание" или постмодернистское погружение мифа в мясорубку, сколько погружение в хтонические глубины человеческого, дальнейшее проникновение в бессознательное, полная деидеологизация философии подлинного человека.
Собственную "иезуитскую закваску" Джойс направил на искоренение всех разновидностей иезуитства — лицемерия, виртуозной аргументации лжи, скрытности, бескомпромиссности, непреклонности, безжалостностной суровости, ханжеского благочестия, "прекрасной лжи". Но — главное — догматизма. Враг писателя — однозначность, абсолютность, безоговорочность. Про-теизм, ускользание, смена масок — не просто стиль, но философия писателя, главная задача которого низвержение всех видов абсолютизма. Только движение продуктивно, только смена перспектив, только новизна плодотворна. В равной мере это относится к антропологии, философии и стилистике Джойса.
Что есть Улисс?
Только ли Одиссея XX века? Нет! — Огромная травестия всей мировой культуры, виртуозная по замыслу экстраваганца на нее. Вторая философия, то есть физика Аристотеля, схоластика Фомы Аквинского, поэзия Данте, культурфилософия Джамбаттисты Вико, монолог Шекспира…
Шекспир, пожалуй, главный строительный материал Улисса, его связующее, его постоянный фон.
Общеизвестно, что в "Улиссе" Джойса есть множество шекспировских реминисценций. Однако, особый интерес представляет не столько явное и недвусмысленное обращение Джойса к шекспировской теме (например, в 9-м эпизоде "Улисса"), сколько принципиальное соприкосновение Джойса с Шекспиром там, где об этом не говорится прямо, где это своеобразное эхо шекспировского мира в литературе XX века не демонстрируется, а скрыто в своеобразном и сложном арсенале поэтики "литературы потока сознания".
Монолог Шекспира прошел через дидактику Драйдена, всевидение и всезнание Лоренса Стерна, через мягкий диккенсовский юмор и дошел до внутреннего монолога в литературе потока сознания, который взял на себя основную функцию выразительных средств литературы совершенно нового типа. Внутренний монолог литературы потока сознания является и кризисом шекспировского монолога, и его определенным развитием; кризисом — поскольку "исчерпал" возможности классического монолога и для выполнения новой художественной функции настолько изменил свой облик, что потерял "право" называться непосредственным наследником Шекспира; развитием же шекспировской традиции он является потому, что не представляет собой бесплодного эксперимента и после выполнения своей "временной миссии" или функции (показ душевной дисгармонии современного человека) останется одним из эффективных изобразительных средств даже на самой магистрали развития литературы.