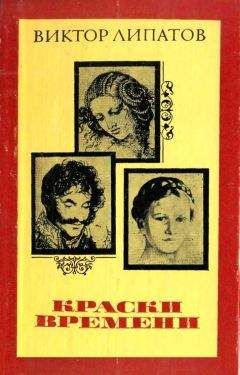У Чюрлениса не было перчаток, а он упорно не хотел служить. А предлагали довольно сносные и оплачиваемые должности — к примеру, директора музыкальной школы. Но вместо этого он предпочитает заниматься композицией, сочиняет фуги, прелюды, симфоническую по: му; является одним из учредителей Литовского художественного общества, устраивает художественные выставки, дирижирует. Наконец, он пишет картины, стараясь живописать музыку бытия.
Николай Рерих впоследствии говорил: "Он принес новое, одухотворенное, истинное творчество. Разве этого недостаточно, чтобы дикари, поносители и умалители не возмутились… Он был не новатор, а новый". Да, ко всему прочему, он был совершенно новый. Он не был революционером, хотя в дни революции 1905 года относился к разряду сочувствующих и писал с горечью: "Большой результат дают солдатские карабины". Он не был революционером, но был новым, что в какой-то степени одно и то же.
Чюрленис стремился к тому, чтобы живопись зазвучала, а краски подчинились музыкальному ритму. Он создает живописные сонаты, приравнивая каждую картину цикла к составной части этой музыкальной формы, называя картины "Аллегро", "Анданте", "Скерцо", "Финал"…
Поэт Э. Межелайтис услышал в синем цвете — тихий звук, пиано; в зеленом — громкое форте.
Суть не только в том, что Чюрленис выступил проповедником синтеза искусств, он путешествует "по далеким горизонтам взращенного в себе мира…". Его "путевые картины" ласковы, певучи, добры, чрезвычайно динамичны. Финал "Солнечной сонаты": молчащий колокол заткан паутиной. За ней дремлют на своих тронах старые литовские короли. Ночь. Покой. Но вспыхивает крошечное солнышко — и мрак покоя уже колеблется.
Чюрленис показывает отличный от существующего мир, в котором были и сказки, и предания, и литовский характер. Там радостно катился морской прибой, унизанный жемчужной пеной, весело проносились ласточки над распластавшимися по ветру огнями свечей, сияло множество солнц, да и могло ли быть иначе — Чюрленис солнцепоклонник, его девиз "Гимн солнцу!".
В картинах воля, и некоторая беспечность, и остережение: то пролетит птица — "страшный птеродактиль", и стрелец нацелит на нее свой лук; то море поднимется своей многопалой лапой, грозясь потопить маленькие кораблики…
В полотнах Чюрлениса космос воспринимается художником как нечто близкое, существующее — он и сам словно отдаляется в космос, чтобы увидеть оттуда землю — и она появляется на его полотнах… Объяснять их подчас трудно, они насыщены символами. Да и вряд ли это необходимо; просто следует расположиться к доброму, участливому. Одна из картин Чюрлениса посвящена именно этому — "Дружба": женщина протягивает на ладонях неопаляющий шар, тепло своей души, сгусток света…
"…Как это чудесно — быть нужным людям и чувствовать свет в своих ладонях". Он шел дорогой любви и бережно нес этот свет. Когда говорят об этом удивительном литовском мастере, емкое понятие "свет" присутствует обязательно, "разливая вокруг себя какой-то свет". Нежный, доверчивый, опекающий, беззащитный, очень внимательный и радующийся простым людям, не приспособленный к жизни — таким был Чюрленис, проносящий свет, излучающий свет своей мысли и сердца, свет добра. Любящий свою Литву. Он шел по жизни, сочинял музыку, пел литовские народные песни и писал картины, в которых тогда лишь немногие видели "умение заглянуть в бесконечность пространства".
Работал по "24 — 25 часов в сутки". А наградой — полуголодное существование. Приехав в Петербург, вынужден был обходиться без мольберта, собирать крохи осыпавшейся пастели… Несмотря на это, он борется, путешествует, размышляет над жизнью… Он пишет "Истину": выплывает напряженное, остро наблюдающее лицо, знающее, провидящее, на что-то решившееся… Человек держит в руках свечу, а к ней устремляются и, обжигаясь, гибнут мотыльки. К истине не стремиться невозможно, возможно ли не погибнуть?
"У меня здоровые крылья, но я прибит и очень устал… Я накоплю силы и вырвусь на свободу… Я полечу в очень далекие миры, в края вечной красоты, солнца, сказки, фантазии, в зачарованную страну…" Но вырваться не удается. Все чаще на его картинах появляется вестник беды — черное солнце. Вместо прекрасного замка — отталкивающий зловещим молчанием город, где один владыка — демон. Нужда, неуверенность, непризнание приводят художника к болезни. Он делает последнюю попытку — убегает из больницы на любимую природу, в зимний лес.
"…Слышишь, как тихо переговариваются звезды…"
И больше не возвращается к жизни.
Есть в Арктике горы Чюрлениса (названные членами полярной экспедиции Седова), есть пик Чюрлениса на Памире. Есть в Литве два бережно хранимых музея, где мы можем видеть его работы.
Известны напутственные слова В. И. Ленина сестре художника Валерии Чюрлёните: "Каждый народ должен хранить своих гениев" [Из статьи В. Сидорова "Чюрленис". — "Огонек", 1975, № 37].
Видится город Чюрлениса — несущий на своих стенах гигантские фрески, отражающие безбрежный мир небольших картин мастера. На стенах зданий, в огромных залах картины-символы, будящие мысль, жажду познания и душевного тепла. Об огромных фресках, которые был способен осуществить гениальный литовский мастер, говорил еще Ромен Роллан, почитавший его "магическое искусство".
Чюрленис — путник в маленьком челне, затерявшемся на многоцветной неяркой глади безбрежного моря. И одновременно он капитан на корабле-гиганте в многоцветном же неярком небе. Над кораблем развевается знамя его веры, надежды, любви…
В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ
(О советских художниках)
Представим себе, что мы вошли в выставочный зал…
О каждой выставке думаешь: она особенная. Она отражает жизнь Родины, которой и ты сопричастен, — дает представление об искусстве XX века, дает возможность перелистать страницы истории и вглядеться в день сегодняшний: художник, если он настоящий мастер, всегда замечает то, что мы упускаем в суете будней.
На выставках интересно наблюдать и за зрителями. Здесь встречаешь "завсегдатаев", уверенных в точности своих искусствоведческих оценок; мало знающих, задиристых юношей и девушек, пылко устремляющихся прежде всего к какой-нибудь новинке, к картине малоизвестного мастера, удивляющей картине; людей, следующих за экскурсоводом и с завидным терпением, последовательно шествующих от картины к картине, что-то отмечая в блокнотиках; людей, случайно забредших, у которых просто образовалось "окно" во времени…
Я подумал: а что, если бы меня, любителя "вольных" прогулок по музеям, вдруг определили экскурсоводом? Дали группу — таких разных посетителей — и сказали: "Веди, рассказывай, приобщай".
Очевидно, я начал бы опять с автопортрета. На этот раз художников XX века.
Михаил Нестеров на "Автопортрете" явно позирующий, артистично-небрежный, в белом, "профессорском" халате, скептичный, напряженный, остужающе взглядывающий, ничего не скрывающий, чуждый светской любезности. Он не просто артист, он ученый.
Казимир Малевич в одном случае превращает себя, художника, в идола, отливающего бронзовой зеленью; в другом — в этакого венецианского дожа, непреклонного властителя.
Наталья Гончарова на автопортрете с желтыми лилиями улыбается — приветливо ли, любопытствуя ли, проходит и оглядывается. Лицо — неправильное, асимметричное, с большим ртом — выглядит лукавым, загадочно-привлекательным; она словно смеется над вами, над окружающим и над собой. Насмешливая цыганка: "Дай погадаю!" — в то же время ни в грош не ставит свои предсказания. Гончарова, чьи самобытные полотна до сих пор неоднозначно принимаются критиками и публикой. Она весело-уверенна, ее плутоватое, умное лицо не дает нам покоя.
Я долго не мог оторвать глаз от автопортретов Зинаиды Серебряковой — радующейся, обаятельной, большеглазой. Скользит по лицу милая улыбка, мягко светится тело, гамма цветов неназойлива, но каждая мелочь на портрете зажигает радостью. Солнце, согревающее нас своими лучами… Уютная, украшенная приятными сердцу вещами комнатка — часть большого мира.
С одной стороны, тонкий психологизм, а с другой — увлечение декоративностью. На это бы я обратил внимание на выставке. В автопортрете Ильи Машкова виден протест против излишнего усложнения психологической характеристики. Он явно декоративен, упрощен, условен, деформирован. Но у этого якобы боярина в шубе и высокой шапке лицо полно мрачной решимости, так не гармонирующей с шубой и фоном.
Портреты, написанные во времена общественных потрясений, они особенно привлекают внимание.
Действие, решимость, вера — вот что в автопортретах Кузьмы Пегрова-Водкина периода гражданской войны. Мерцают, колеблются краски эпохи, возникают новые цветосочетания: он выбрал свой путь, он решил, его скуластое лицо выдает напряжение мысли, ощупывающей пространство.