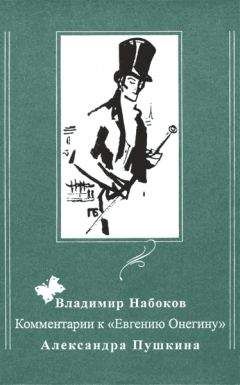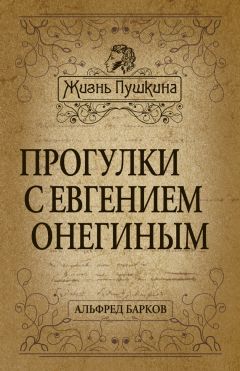VIII, 1-14 — Татьяна любопытным взором… — "После всех увеселений вносили стол и ставили посреди комнаты <…> Являлась почетная сваха со скатертью и накрывала стол. Старшая нянюшка приносила блюдо с водою и ставила на стол. Красные девицы, молодушки, старушки, суженые снимали с себя кольца, перстни, серьги и клали на стол, загадывая над ними "свою судьбу". Хозяйка приносила скатерть-столечник, а сваха накрывала ею блюдо. Гости усаживались. В середине садилась сваха прямо против блюда. Нянюшки клали на столечник маленькие кусочки хлеба, соль и три уголька. Сваха запевала первую песню: "хлеба да соли". Все сидящие гости пели под ее голос. С окончанием первой песни сваха поднимала столечник и опускала в блюдо хлеб, соль, угольки, а гости клали туда же вещи. Блюдо снова закрывалось. За этим начинали петь святочные подблюдные песни. Во время пения сваха разводила в блюде, а с окончанием песни трясла блюдом. Каждая песня имела свое значение; но все эти значения были не везде одинаковы. Так во многих местах одно и то же значение прилагалось к разным песням, смотря по местному обычаю. Эти значения: к скорому замужеству; к свиданию; замужество с ровнею; замужество с чиновным; к сватанию; к бедности; к сытой жизни; к свадьбе; к богатству; исполнение желания; веселая жизнь; девушкам к замужеству, молодцам к женитьбе; счастливая доля; дорога; замужество с милым; прибыль; замужество во двор; несчастье; к смерти; к болезни; к радости" (Снегирев, цит. соч., с. 44–46). Гадали также на растопленный воск или свинец.
Во время Святок различали "святые вечера" (25–31 декабря) и "страшные вечера" (1–6 января). Гадания Татьяны проходили именно в страшные вечера, в то же время, когда Ленский сообщил Онегину, что тот "на той неделе" зван на именины (IV, XLVIII). Подблюдные песни, названные П, известны в ряде записей:
Кот кошурку
Звал спать в печурку:
"У печурке спать
Тепло, хорошо".
Диво ули ляду!
Кому спели,
Тому добро!
(цит. по кн.: Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970, с. 175, см. также №№ 201–204; известны записи Шейна, Снегирева и др.). Песня предвещает замужество.
У Спаса в Чигасах за Яузою,
Слава!
Живут мужики богатые,
Слава
Гребут золото лопатами,
Слава!
Чисто серебро лукошками.
Слава!
<И. Снегирев>, цит. соч., с. 71;
ср.: "Поэзия крестьянских праздников", с. 223).
Песня предвещает смерть.
IX — Строфа посвящена следующему, более важному этапу святочных гаданий. "Девушки после гостей начинали кликать суженого и ворожить разными способами под руководством опытных нянюшек". Все гадания на Васильев вечер "почитались важными и сбыточными (<И. Снегирев>, цит. соч., с. 51, 57).
13-14 — К а к в а ш е и м я? Смотрит он… — Иронический тон повествования создается за счет столкновения романтических переживаний героини и простонародного имени, решительно несовместимого с ее ожиданиями. П сначала избрал имя «Мирон», (VI, 385), утвержденное литературной традицией XVIII в. как одно из комических и простонародных (см.: "Щепетильник" Лукина, "Анюту" Попова и др.), потом, поколебавшись между «Харитон» и «Агафон» (VI, 385), избрал последнее, недвусмысленно отнесенное к крестьянскому социальному ареалу и, одновременно, первое из тех, которые он в примечании 13-м отнес к "сладкозвучнейшим греческим именам".
XI–XXI — Сон Татьяны имеет в тексте пушкинского романа двойной смысл. Являясь центральным для психологической характеристики "русской душою" героини романа, он также выполняет композиционную роль, связывая содержание предшествующих глав с драматическими событиями шестой главы. Сон прежде всего мотивируется психологически: он объяснен напряженными переживаниями Татьяны после «странного», не укладывающегося ни в какие романные стереотипы поведения Онегина во время объяснения в саду и специфической атмосферой святок — времени, когда девушки, согласно фольклорным представлениям, в попытках узнать свою судьбу вступают в рискованную и опасную игру с нечистой силой. С. В. Максимов писал: "Почти на протяжении всех святок девушки живут напряженной, нервной жизнью. Воображение рисует им всевозможные ужасы, в каждом темном углу им чудится присутствие неведомой, страшной силы, в каждой пустой избе слышится топот и возня чертей, которые до самого Крещения свободно расхаживают по земле и пугают православный люд…" (Максимов С. В. Собр. соч., т. XVII. СПб., 1912, с. 4). В связи с этим следует подчеркнуть, что сон Татьяны имеет глубоко реалистическую мотивировку, и это заставляет сразу же решительно отбросить все попытки искать в его образах политическую тайнопись, намеки на казненных декабристов и все пр., совершенно несовместимое с психологической правдой характера провинциальной романтической барышни (см. попытку увидеть в "кровавых языках" намек на казненных декабристов, а усы чудовищ связать с жандармами (почему непременно с жандармами? — усы носили все офицеры легких кавалерийских полков) в статье H. H. Фатова "О "Евгении Онегине" А. С. Пушкина". — "Учен. зап. Черновицкого гос. ун-та", 1955, т. XIV. Сер. филол. наук, вып. II, с. 99–100).
Однако сон характеризует и другую сторону сознания Татьяны — ее связь с народной жизнью, фольклором. Подобно тому как в третьей главе внутренний мир героини романа определен был тем, что она «воображалась» "героиней Своих возлюбленных творцов" (III, X, 1–2) — авторов романов XVIII — начала XIX вв., теперь ключом к ее сознанию делается народная поэзия. Сон Татьяны — органический сплав сказочных и песенных образов с представлениями, проникшими из святочного и свадебного обрядов.
Прежде всего следует отметить, что гадание "на сон" представляет собой обычное для святочных гаданий опасное действие, в ходе которого гадающий вступает в общение с нечистой силой. Приступая к такому гаданию, девушки снимают с себя кресты, пояса (пояс — древний языческий символ защитительного круга — сохраняет значение оберега и в русских этнографических материалах). Формула информантов, описывающих святочное гадание: "Сняли с себя кресты, немытика помянули" (Максимов, цит. соч., с. 6) — указывает на призывание черта[34]. П, видимо, был осведомлен в этой ("черной") стороне святочных гаданий. Не случайно он подчеркнул, что Татьяна "поясок шелковый Сняла" (V, X, 9-10) — упомянуть о снимании креста, конечно, не было возможности. Вспомним, что выражение "на этом глупом небосклоне" (III, V, 12) печатно было объявлено кощунственным ("Едва смеешь верить глазам своим!" — восклицал критик альманаха "Северная звезда" на 1829 г. М. А. Бестужев-Рюмин), ср. также цензурные трудности с публикацией баллады Жуковского "Иванов вечер". См.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I. СПб., 1889, с. 444–447.
Указание на то, что "Татьяна поясок шелковый Сняла" — не простое описание раздевания девушки, готовящейся ко сну, а магический акт, равнозначный снятию креста. Это доказывается особой функцией пояса, зафиксированной в ряде этнографических описаний русских поверий: "Существуют и особые средства борьбы с чарами колдуна. Это прежде всего меры профилактические — обереги. Таковым является постоянное ношение пояса. Великоруссы носят пояс на голом теле и не снимают даже в бане" (Никитина Н. А. К вопросу о русских колдунах. — Сб. Музея антропологии и этнографии, VII. Л., 1928, с. 319–320).
Для характеристики атмосферы, которой окружены святочные гадания, показателен следующий рассказ: "Вот я стала ложиться спать, положила гребенку под головашки и сказала: "Суженый-ряженый, приди ко мне мою косу расчесать". — Сказавши так-то, взяла я и легла спать, как водится, не крестясь, не помолившись Богу". Ночью пришел черт и вырвал гадающей полкосы. Девушка подняла крик, проснулись родители, отец взял кнут, "лупцует да приговаривает: "Не загадывай, каких не надо, загадок, не призывай чертей" (Максимов, цит. соч., с. 5).
Таким образом, гадание на сон проходит в обстановке страха, характеризующего всякое ритуальное общение с нечистой силой. Мир нечистой силы — мир, по отношению к обыденному, перевернутый, а поскольку свадебный обряд во многом копирует в зеркально перевернутом виде обряд похоронный, то в колдовском гадании жених часто оказывается подмененным мертвецом или чертом. Такое переплетение фольклорных образов в фигуре святочного «суженого» оказывалось в сознании Татьяны созвучным «демоническому» образу Онегина-вампира и Мельмота, который создался под воздействием романтических «небылиц» "британской музы".
Однако выделение в образе «суженого» инфернальных черт активизировало определенные представления из мира народной сказки: герой начинал ассоциироваться с силами, живущими "в лесу", "за рекой". Сюжеты этого рода подсказывали «лесному жениху» других двойников (в зависимости от жанра медведя или разбойника). Лесная свадьба, которая могла быть истолкована и как смерть, похищение нечистой силой, получала дополнительное сюжетное решение: разбойник и красна девица. Следует иметь в виду, что образ разбойника также был окружен ореолом романтики в литературной традиции. С этой стороны фольклорные и романтические представления также соприкасались.