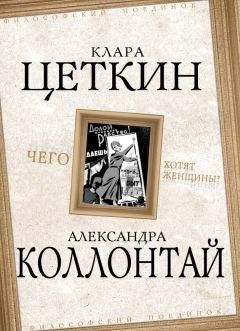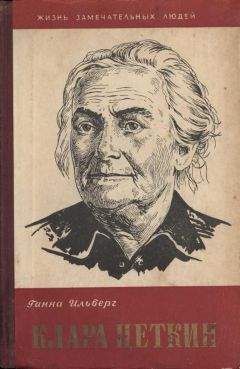Нужно ли доказывать, что в формалистских рядах есть подлинно талантливые значительные мастера. Большая известность Штеренберга, Шевченко, Истомина, Тышлера и др., конечно, основана на какой то степени мастерства этих художников. Но их мастерство больше утверждается западно-европейской гурманской, эстетской критикой, чем приемлется в какой бы то ни было степени нашей общепролетарской и специально-художественной общественностью. Такое положение, собственно говоря, вполне естественно. Ибо мастерство — это тоже не отвлеченное, умозрительное понятие, а социальное, вплотную связанное с той действительностью, которую оно отражает, творчески претворяет. Чем органичнее, идейнее, реальнее претворение данной действительности, тем мы вправе признать более высоким мастерство. В этом, и именно в этом, огромное мастерство Микель-Анджело, Леонардо-да-Винчи, Рафаэля, выразивших тенденцию, сущность огромного размаха освобождения от феодальной замкнутости в период широкой экспансии капитализма — эпохи Возрождения. В этом мастерство художников-голландцев, претворивших в своих полотнах идеалы первой буржуазной революции, революции торгового капитала — Нидерландской революции.
Что же сказать в этом разрезе о мастерстве советских формалистов? Можем ли мы говорить о претворении ими в какой бы то ни было степени идей пашей действительности? Конечно, нет. Потому что в лучшем случае некоторые из них стоят на позициях идеалистического материализма. Их творчество находится под прямым влиянием разложившихся школ западноевропейского искусства. Надо учиться у западного искусства, но не у эпигонов когда то передовых школ, а у их зачинателей и вождей. Следовательно, безусловно признавая за некоторыми формалистами мастерство, мы должны отдавать себе отчет в том, что это буржуазное, а в лучшем случае мелко-буржуазное мастерство, — чужое мастерство, подлежащее критическому разоблачению. В этом процессе разоблачения мелко-буржуазные художники-формалисты должны вместе с тем получить внимательную товарищескую помощь, если у них будет добрая воля к перестройке. Хочется думать, что по крайней мере лучшие из них протрут глаза, прочистят уши и смогут услышать зов нашей изумительной жизни. К этим лучшим могут быть переадресованы замечательные слова Горького, сказанные в другой связи: «Вы живете в атмосфере коллективного труда масс, изменяющего физическую географию земли, вы живете в атмосфере небывалой, изумительно дерзко и успешно начатой борьбы с природой, в атмосфере, которая перевоспитывает вредителей, врагов пролетариата, закоренелых собственников, „социально опасных“ в полезных и активных граждан. Может быть и для вас, товарищи, уже наступило время перевоспитаться в подлинных мастеров своего дела, в активных сотрудников пролетариата, который работает на свободу, на счастье пролетариата всех стран» («О кочке и точке», «Правда» от 10/VII-33 г.)
Я не ставлю своей задачей исторический анализ формалистских школ и направлений (кубизма, дадаизма, лучизма и пр., и т. п.) Тем более я не могу в этой работе остановиться на анализе всевозможных модификаций формулы «искусство для искусства», под сень которой укрывались все ультра-буржуазные, разлагающиеся школы живописи, как русские, так и западно-европейские. Это большая отдельная тема.
Но я хочу привести некоторые документы социальной истории становления русского формализма. Эти немногочисленные выдержки, взятые мною из махрово-реакционного дореволюционного художественного журнала «Аполлон» (журнал эклектически отражал две тенденции дворянско-буржуазного изобразительного искусства: изломанность, гурманство, патологичность так называемых «декадентов» и нео-классические «петербургские» тенденции с их ставкой на «классический» застывший декоративизм, призванный возвеличивать рассыпающуюся храмину русского самодержавия). Сличение этих «аполлоновских» откровений с теми тенденциями, которые формалисты-теоретики протаскивали под «революционной» маркой после Октября, сразу вскрывает и по этой (теоретической) линии буржуазную, реакционную основу формализма. В этих высказываниях мы найдем новое подтверждение, новое доказательство абсолютно правильной оценки советской общественностью самого творчества формалистов, как творчества буржуазного.
В № 4–5 «Аполлона» за 1916 г. помещена статья Н. Пунина под названием «Рисунки нескольких молодых». В этой статье мы сталкиваемся с положениями, служащими явным прообразом пунинских деклараций в качестве представителя Наркомпроса (в 1919–1920 гг.) и позиций «ультра-революционных», «пролетарских» органов — «Искусство коммуны» и «Изобразительное искусство». Именно с этой стороны нас и интересуют эти высказывания. Установление идентичности этих теоретических рассуждений, их последовательности, как звеньев одной цепи (от махрово-буржуазно-дворянского мистического «Аполлона» до формалистско-буржуазного засилья в первые годы военного коммунизма) — ярко раскрывает их истинную классовую природу.
«Мир перестал быть мимолетным видением (я говорю пока о французских художниках), — пишет Лунин, — солнце перестало быть богом, как это утверждал Тернер, ни мгновение, ни воздух не играют больше никакой или почти никакой роли. Реальность, но не та, что существует лишь как видимость, реальность, как становление, как нечто познаваемое всеми силами нашего организма, — вот что считаю я содержанием нового искусства. И я бы расширил это содержание до тех границ, где сотворенный мир, переставая удовлетворять вкус художника, уступает свое место созданной, не повторенной, не скопированной с природы, вещи, но для этого, кажется, не на стал час…».
В этом положении с достаточной четкостью отражены тенденции конечного загнивания буржуазного искусства, безвыходности, тупика. Тенденции эти своеобразно преломлены через призму растерянности, неудовлетворенности мелко-буржуазного теоретика, ищущего какого-нибудь выхода из этого тупика, но, естественно, его не находящего, ибо для этого теоретика классовый, социальный подход к явлениям искусства — книга за семью печатями. Не только понять, но хотя бы почувствовать, что на смену дотлевающему буржуазно-дворянскому искусству придет искусство нового, молодого здорового класса — ему, конечно, не дано. И теоретик, покорно бредя на поводу запросов, идущих от упадочных, растерявших всякий идейный багаж, декоративных, модернистских, символистских, патологических, или наслажденчески пассивно-созерцательных групп и направлений буржуазного искусства, направлений, отражающих уже полную невозможность какого-нибудь понимания, осмысления действительности (грозный для буржуазно-дворянской России 1916 г.), — создает теорию (вернее — заимствует ее у Запада) неглижирования, неприятия действительности отрицания ее, как неудовлетворяющей «вкус художника», устанавливает примат созданной субъективным произволом художника вещи над живой действительностью. Это, конечно, не ново. Это модификация формулы «искусство для искусства», имевшей в течение всего начала XX века столь широкое хождение у наших «декадентов». Тенденции эти особенно усилились в эпоху 1905 г. и вполне закономерно возродились в предреволюционный 1916 г., являясь тихой гаванью для укрывающихся от общественных, революционных бурь буржуазных интеллигентов.
Именно эти социальные настроения являются основой того, что мы сейчас в живописи определяем, как формализм. В той же статье Пунина мы находим развернутую формалистскую платформу (обобщение этой платформы дано применительно к анализу конкретной художественной практики — рисунков Тырсы): «Трудно вообще раскрыть понятия формы, формы-сущности, если так можно выразиться, эстетической „вещи в себе“, но именно рисунки Тырсы дают возможность хорошо почувствовать эту форму. Очищенная, с одной стороны, от натурализма во всех его видах и условиях, с другой, от светотени и всего преходящего, она остается на бумаге самодовлеющая, крепкая и точная, как какая-то мысль, идея, как познание. Целостная, спокойная, независимая, она возникает вся сразу и сразу начинает жить, ее чувствуешь так, как чувствуешь любую реально-существующую вещь и, как всякая вещь, она имеет полноту, как бы организм, имеет разум, сердце и протяженность. В конце концов она не столько нарисована, сколько создана, не столько намечена, „поймана“, сколько сделана, взята, взята обеими руками и поставлена в мире для жизни».
В этой цитате-платформе характерна уже откровенная попытка подмены идеи, мысли, самого факта познания — самодовлеющей формой. Иными словами, здесь налицо уже формула «классического формализма», имеющая хождение и поныне. В наше время она стыдливо прикрыта фиговым листком менее откровенных теорий. В качестве одной из них можно указать хотя бы на теорию «правды материала», как определяющей, рождающей произведение искусства. Пунинская платформа уже вплотную подводит нас к воинствующим декларациям о деидеологизации, о принципиальной безыдейности искусства. Забегая немного вперед, не лишнее будет вспомнить, что именно Пунин и иже тогда были с ним, учинили в первые годы военного коммунизма беспардонное издевательство над марксовым положением — «бытие определяет сознание». Ловко жонглируя, Пунин утверждал: бытие произведения искусства это его форма, а раз так, то в картине не идея определяет сознание, а форма. Так враждебная буржуазная теория рядилась в марксистские одежды.