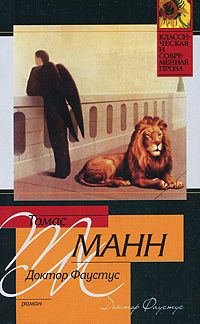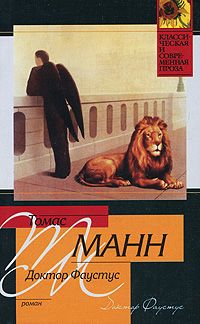Среди других австро-германских пианистов выделялись Рудольф Серкин (1903—1991), уделявший, как и Шнабель, большое внимание внутренней архитектуре музыки, однако в то же время способный на нежное звучание и тонкую, поэтичную фразировку, урожденный чилиец Клаудио Аррау (1903—1991), учившийся в Берлине у Мартина Краузе, который в свою очередь был учеником Листа, а также Альфред Брендель (р. 1931), считавшийся в определенных кругах «новым Шнабелем».
Детство и юность Серкин провел в Вене и Берлине, а на его дебютном выступлении в Америке дирижером был Артуро Тосканини. Критики восторгались его «кристально точным» сочетанием мощи и утонченности. Впоследствии он преподавал нескольким поколениям музыкантов как в Кертисовском институте музыки в Филадельфии, так и в Мальборо-колледже — своего рода летней музыкальной школе, которую он основал на холмах Вермонта в 1951 году, чтобы пестовать там традиции камерной музыки (сейчас ею совместно управляют Ричард Гуд (р. 1943) и Мицуко Утида (р. 1948), два самых ярких современных пианиста, специализирующихся на немецком репертуаре).
Клаудио Аррау в юности. Фото предоставлено Альфредом А. Кнопфом
Аррау был гипнотизером. Лондонская Times описывала его игру как «разновидность чуда… Словно Господь, прикасающийся к руке Адама на крыше микеланджеловской Сикстинской капеллы, — нечто текучее, таинственное, глубокое, живое». Сосредоточенность, с которой он играл, была почти тактильна, она заполняла зал и завораживала публику.
На Альфреда Бренделя, пианиста, чей явный аналитический уклон всегда вызывал в равной степени восхищение и жесткую критику, большое влияние оказал Эдвин Фишер (1866—1960), уроженец Швейцарии, проживавший в Лейпциге и, подобно Аррау, учившийся в Берлине у Мартина Краузе. Противоречивое отношение к Бренделю подпитывалось еще и его литературными опытами — от причудливой сюрреалистской поэзии до очерков, агитирующих за точность нотной записи. Сам композитор, однако, считал, что в Европе никто не склонен преувеличивать его холодную рассудочность — «это чисто американская черта».
Клаудио Аррау в зрелости. Фото предоставлено Philips
На самом деле значительное количество его теоретических работ было неверно истолковано. Призыв не отступать при исполнении произведения от умысла композитора и впрямь лежал в основе его творческого мировоззрения, однако в своих записках Брендель раскрывал эту мысль намного более тонко и изощренно. «Добиться простоты выражения на самом деле очень сложно», — напоминал он. Существует «огромное количество нюансов», и лишь если использовать их все, простота не превратится в «пустоту и скуку».
Наблюдения и выводы Бренделя шли от сердца, а не только от ума. Например: «Мы следуем правилам лишь для того, чтобы подчеркнуть исключения». Или: «Психологический темп исполнения может расходиться с тем, который задан метрономом». Делай работу, призывает пианист, но помни, что «четкость понимания призвана обогатить, а не ослабить наше чувство прекрасного».
Перед тем как дать мастер-класс в Джуллиардской школе осенью 2010 года, Брендель подтвердил свою позицию. «Аналитический ум — своего рода сфинктер для эмоций, — объяснил он. — Я не сажусь заранее и не думаю над тем, что хотел сказать композитор. Даже при написании статьи я не начинаю с анализа, до него дело доходит ближе к середине. Мои взгляды на исполнение музыки близки шнабелевским. Детали важны для меня потому, что именно благодаря им музыка воспринимается как органическое целое».
Альфред Брендель и его ученица в Джульярдской школе Юн Э Ли. Peter Schaaf
Спустя несколько мгновений он уже показывал студентам хитросплетения одной из сонат Бетховена, учил их соблюдать баланс правой и левой руки, рассказывал о разных оттенках артикуляции, проводил границу между дисциплиной и свободой, исследовал эмоциональное наполнение каждой музыкальной фразы — в его руках фортепиано превращалось в целый оркестр, и в звучании оживал несокрушимый бетховеновский дух.
* * *
Впрочем, не все последователи Лешетицкого играли в сдержанной шнабелевской манере. Один из его учеников как-то раз довел публику до исступления и даже спровоцировал небольшую гражданскую войну — чтобы ее остановить, потребовалось вмешательство Конгресса.
В 1891 году «Стейнвей-холл», построенный за четверть века до того и ставший музыкальным сердцем Нью-Йорка, закрылся, уступив место «Карнеги-холлу» (который тогда назывался «Нью-мюзик-холлом»). К этому событию знаменитая фортепианная фирма приурочила три концерта польского пианиста Игнация Яна Падеревского в сопровождении оркестра под управлением Вальтера Дамроша. Выступления харизматичного длинноволосого пианиста произвели такой фурор — в статье в Musical Courier Ханекер назвал его «паддиманией», — что Чарльз Ф. Третбар, руководитель концертного и репертуарного отдела фирмы, мгновенно договорился с Падеревским о восьмидесяти дополнительных концертах (за гонорар в 30 тыс. долларов). Успех не ослабевал, поэтому вскоре добавились и другие даты, и в конечном счете пианист заработал 95 тыс. долларов.
Обаяние его игры заключалось прежде всего во врожденном чувстве пропорции: он знал, как и когда чередовать легкие моменты с прочувствованными и напряженными (впрочем, даже это не могло объяснить всеобщего ажиотажа по его поводу, что заставило пианиста Морица Розенталя язвительно заявить: «Да, он, конечно, неплохо играет, но что если его фамилия была бы не Падеревский?..»). Как бы там ни было, очередные гастроли проходили на фоне серьезных трудностей. Условия жизни были ужасающими — в редких отелях, где не было мышей и тараканов, пианисту не разрешали репетировать в номере. К тому же стресс, вызванный необходимостью дать 107 концертов за 117 дней, не мог не сказываться. Впрочем, самое худшее произошло ближе к концу путешествия, когда в мае 1893 года на Всемирной ярмарке в Чикаго (которая официально называлась Всемирной колумбовской экспозицией, в честь 400-летия открытия Америки) вражда, долгие годы зревшая между разными фирмами-производителями инструментов, вылилось в настоящую битву. Конечно, стычки случались и раньше — в частности, перепалки между фирмами Steinway, Weber и Hale в 1870-е (Уильям Стейнвей хвастался в дневнике, что очень удачно придумал заплатить New York Times за благосклонную первополосную статью о его предприятии). Но с чикагской они не шли ни в какое сравнение.
Ярмарка в Чикаго с самого начала обросла большим количеством склок и скандалов. Адвентисты седьмого дня пытались в суде оспорить то, что открытие было назначено на воскресенье. Организаторы отказались развесить на стенах рисунки, присланные филадельфийской Академией изящных искусств, поскольку на них была изображена обнаженная натура. К моменту открытия штукатурка в большинстве зданий еще не успела высохнуть. А за кулисами разворачивалось музыкальное сражение поистине эпического масштаба.
Тремя годами ранее немецкий дирижер Теодор Томас переехал в Чикаго по приглашению тамошних финансовых воротил, которые хотели поставить его во главу Чикагского оркестра. «Ради возможности иметь постоянный оркестр я бы и в ад пошел», — признавался Томас, сам еще не осознавая, что эта формулировка окажется провидческой. Так на свет появился Chicago Symphony. Разумеется, именно Томаса попросили отвечать за музыкальное расписание ярмарки, и он пригласил Падеревского.
Дальнейшего не мог себе представить никто. Для роялей и фортепиано разных производителей в выставочном зале было выделено специальное пространство. Самые известные бренды были с восточного побережья, но организаторы решили дать фору местным ремесленникам, не только предоставив для их экспонатов более выигрышные места, но и изменив традиционные правила проведения подобных конкурсов. Вместо стандартного жюри в Чикаго победителя определял один-единственный человек — доктор Флоренц Цигфельд, председатель чикагского музыкального колледжа, в правление которого входил У. У. Кимбалл, руководитель самой крупной местной фирмы по производству фортепиано.
Представители «Чикеринга» из Бостона покинули выставку первыми. В последующие две недели с пробега снялись также все шестнадцать нью-йоркских производителей. Чикагцы пришли в бешенство, и ссора выплеснулась на страницы газет всех вышеупомянутых городов. «Инструменты из Пеории, Кеокука и Ошкоша, уж конечно, будут звучать намного лучше, если не сравнивать их с инструментами из Бостона, Балтимора или Нью-Йорка, — презрительно писала New York Times на первой полосе. — В отсутствии этих жалких пародий на фортепиано дикие, покрытые шерстью инструменты из западных штатов возьмут все призы, и фермерские дочки наверняка будут в полной уверенности, что они как минимум не хуже тех, которым отдают предпочтение настоящие пианисты».