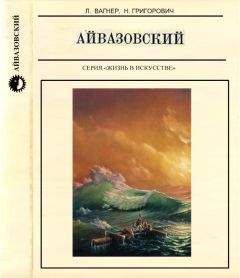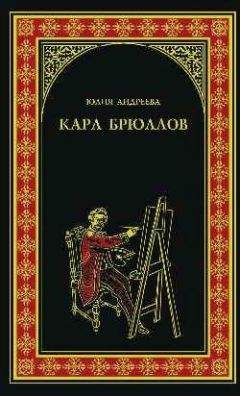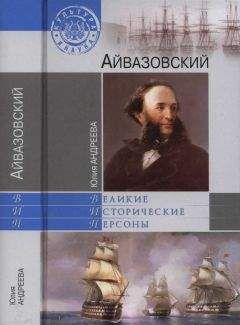Так в душу Гайвазовского проник образ далекой, но такой близкой ему Италии. Теперь свои досуги он делил между Торквато Тассо и Сильвестром Щедриным, время от времени напевая:
Веселый край
приветливый и милый,
И жители во всем
Ему подобны.
В один из дней, когда в Петербург неожиданно пришла весна, Гайвазовский решил последовать совету Алексея Романовича и приступил к копированию картины Сильвестра Щедрина «Вид Амальфи близ Неаполя». Все, что требовалось для истинного копииста, в нем уже созрело: он глубоко вник в произведение, вжился в него, мысленно испытывал то, что, как он был глубоко уверен, пережил когда-то творец картины при ее создании…
Наступило петербургское лето, первое северное лето в жизни Гайвазовского. Пришла пора белых ночей. Странно было ему, жителю Тавриды, привыкшему к темным южным ночам у себя на родине, принимать за ночь эти серебристо-сиреневые прозрачные сумерки.
Завороженный Гайвазовский вместе с друзьями часами бродил по пустынным, затихающим улицам столицы. Порой они украдкой заглядывали в незавешанные окна и наблюдали, как какой-нибудь мечтатель сидел задумавшись над книгой у открытого окна или писал без свечи.
Такие прогулки полны были очарования и романтических бесед. Друзья вслух делились друг с другом своими надеждами и стремлениями, говорили о Лебедеве, уехавшем в середине мая в чужие края, завидовали ему, вспоминали о родных местах… Охотнее всего слушали увлекательные рассказы Гайвазовского о древней Феодосии, где у стен угрюмых генуэзских башен вечно плещут синие полуденные волны, где можно надолго уходить с рыбаками в открытое море. А иногда юноши собирались вечерами в мастерской Воробьева и, беседуя, глядели из окон на Румянцевскую площадь. Рядом тихо плескалась Нева, на другом берегу вдаль уходили дома набережной.
Часто друзья вместе читали. Год назад вышел роман Пушкина «Евгений Онегин», вначале печатавшийся отдельными главами. Какие это были чудесные часы, когда каждый по очереди брал в руки книгу и произносил вслух звонкие, певучие стихи, в которых, как в Моцартовых мелодиях, звучала волшебная музыка, сверкали высокие мысли, пламенели глубокие чувства.
Гайвазовский был счастлив. Он с легкостью переносил полуголодное существование в Академии. А учителя поражались его необыкновенным успехам в живописи. Об этих успехах был наслышан и сам президент Академии Алексей Николаевич Оленин. Встречая Гайвазовского в коридорах Академии, Оленин останавливал его, хвалил и говорил, что надеется на него. Похвала президента еще больше окрыляла юного художника.
Однажды в воскресенье, когда Гайвазовский был у Томилова и, как обычно, работал в картинной галерее над новой копией с картины Клода Лоррена, покорившей его искусно написанной морской водой и особенно морской далью, вошел Алексей Романович. Томилов недавно перенес тяжелую болезнь, сейчас быстро поправлялся и, как все выздоравливающие, был особенно счастлив и желал делать приятное всем окружающим.
— Ну, друг мой, — заявил он, — приступайте к сборам. Скоро кончаются занятия в Академии и вы поедете с нами на все лето в Успенское. Какие там места для художника! Благодать божья!
Все произошло очень быстро. Не успел Гайвазовский отписать батюшке и матушке в Феодосию, а Александру Ивановичу Казначееву — в Симферополь о предложении Алексея Романовича, как уже наступило время ехать в Успенское.
И вот он в поместье Томилова, в селе Успенском, расположенном на живописном берегу Волхова, близ Старой Ладоги, где неподалеку сохранились развалины Староладожской крепости.
Первая неделя пролетела незаметно. Гайвазовский со всем пылом и восторгом ранней юности отдался летним развлечениям: купался в реке, катался на лодке, а вечерами пел и играл на скрипке. Вскоре все полюбили одаренного юношу. Но прошла неделя, и молодой художник снова взялся за работу. Теперь Гайвазовский подолгу пропадал, иногда даже не приходил ночевать. Он упросил Алексея Романовича не тревожиться его отсутствием и предоставить ему свободу. А вскоре в альбоме юного художника появились рисунки с натуры: живописные развалины древней крепости, глядящей в прозрачные воды спокойной реки; рыбаки, отдыхающие у костра; убогие крестьянские дворики.
Со всех сторон Гайвазовского обступила новая природа, новые люди. Он мог подолгу сидеть неподвижно в лесу и чутко прислушиваться к мелодичному говору ручья или к шепоту и вздохам реки, к таинственным голосам и шорохам лесной жизни, следить внимательным взором за неторопливым движением облаков. Ему даже казалось, что и облака не беззвучны, что и они тихо говорят ему, как вся природа вокруг, простые, мудрые слова. Юный художник радостно впитывал новые впечатления бытия. Здесь все было не так, как на юге. Там солнце дольше и щедрее излучает на землю свое тепло и свет. Люди привыкли к солнцу и даже перестают замечать эту благодать. Тут же, на севере, оживают под недолгой лаской солнца лес, луга и поля, уставшие от нескончаемых холодов и ненастья. И люди в центре России кажутся Гайвазовскому мягче, добрее, мудрее, чем на юге. За короткое время он сдружился с крестьянами. Они с самого начала, когда он заходил к ним испить воды и посидеть на бревнах со стариками, не чувствовали в нем барчука. Гайвазовский особенно любил вечерние часы в деревне, когда закончен страдный летний день и над каждой крестьянской кровлей плывет тонкий голубоватый дымок. В эти мирные вечерние часы женщины готовили ужин, а мужчины, отдыхая, толковали про свое житье-бытье.
Не раз юноша делил с крестьянами их скудный ужин. Гайвазовский видел, как крестьяне бережно ломали натруженными руками черный хлеб, аккуратно подбирая каждую крошку. Деревенская жизнь предстала без всяких прикрас. Он с негодованием вспоминал акварели столичных модных художников, изображающих крестьян и крестьянок как грациозных пастушков и пастушек, а деревню — идиллической, счастливой Аркадией.
В душе у Гайвазовского рождалось не только сострадание к измученным людям, но и осуждение тех, кто был этому виной. Теперь юноша другими глазами смотрел на богатый гостеприимный дом Томилова, полный гостей, беспечно проводящих дни в довольстве и праздности. Нужно, обязательно нужно напомнить этим сытым, беззаботным людям, что с ними рядом в бедности живут те, кто их кормит. Молодой художник решил написать картину с натуры.
Через несколько дней акварель «Крестьянский двор» была окончена. Крестьянин в грустной задумчивости с опущенной головой сидит на оглобле посреди двора; лошадь, только что выпряженная из телеги, покорно дожидается, когда ее накормят. Безнадежностью, безысходной тоской веяло от этой бедности. В картине семнадцатилетнего художника не было протеста и гневного обличения, но в ней зато было стремление возбудить в зрителе человеческое сочувствие и сострадание к труженику — крепостному.
Гайвазовский показал акварель Томилову, того привело в восхищение совершенство графического изображения и разнообразие художественных приемов. Богатый помещик, страстный коллекционер, гордившийся тем, что владеет творениями великих мастеров живописи, не мог или не хотел понять содержание этого глубоко правдивого и трогательного произведения.
На юношу это подействовало отрезвляюще. Радостное, счастливое настроение первых дней жизни в Успенском потускнело. Все чаще припоминалась Феодосия, опять пробудилась заглохшая на время тоска по родному дому, по морю, которое ярко голубеет теперь под лучами летнего солнца.
И снова в часы грусти, так же как и в часы радости, Гайвазовский вспомнил стихи любимого Пушкина о море и записал их в свой альбом рядом с последними рисунками:
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы
И блеск, и тень, и говор волн.
Стихи эти властно отзывались в сердце, когда, бродя в лесах вокруг Успенского, он повторял их как обещание, как клятву верности морю.
Но в эти дни, полные горьких раздумий о людях, с которыми сталкивает его жизнь, к нему неожиданно пришла радость. И эту радость принесла любимая живопись — постоянная утешительница.
Как-то утром, когда Гайвазовский собирался на прогулку, Томилов позвал его в кабинет. Алексей Романович был сегодня какой-то торжественный. Не только лицо, но и движения его были величавы. Гайвазовский даже растерялся и немного оробел. Он привык видеть Томилова постоянно любезным и простым в обхождении.
Алексей Романович немного помедлил, а потом сообщил:
— Собирайтесь в дорогу, друг мой. Сегодня после полудня мы выезжаем в Петербург. Я получил известие, что наконец-то привезли «Последний день Помпеи». Картину выставили в Академии художеств. Мне пишут, что толпы народа заполнили залы…